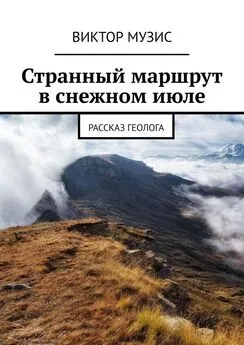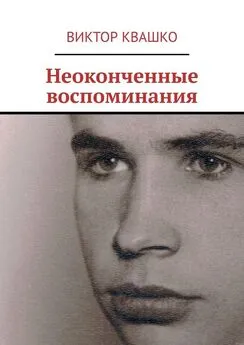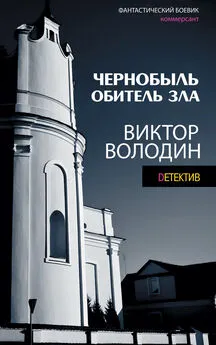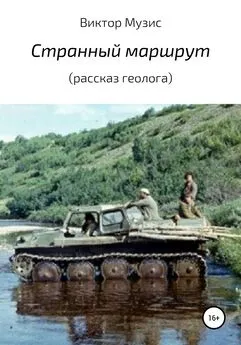Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уезжал в отпуск Федор Фролыч Павлов. Собирался не торопясь Горелышев, работавший предыдущее лето прорабом в партии Колтовского, а зимой трудившийся в отделе подсчета запасов, занимался определением предельного веса самородков и анализом золота.
В район открытых Ф. Ф. Павловым оловорудных проявлений выезжали партии Резника, Климова и Авдеева. Собирались партии Аврамова, Красильникова, вернувшегося из отпуска Павла Николаевича Котылева, Якушева, Василия Ивановича Шкрабо. Приехали новые геологи — Иван Иванович Тучков и Варвара Сергеевна Ракитина, они тоже собирались в поле.
У меня выкроилось свободное время из-за того что материалы по району предстоящих работ были скудны, и Б. Л. Флеров поручил мне заняться подготовкой материала по тематической работе, которую он сам собирался выполнить: о связи аллювиальных россыпей оловянного камня, разведанных в долинах ручьев Шайтан, Блуждающий, Кармен и Первач через коллювиальные и делювиальные россыпи с оловорудными жилами Бутугычага. Я погрузился в эту работу, строил планы россыпей в изолиниях вертикальных запасов, кривые изменения линейных запасов, разрезы россыпей в изолиниях содержания оловянного камня, планы коллювиально-делювиальных россыпей и так далее. Закончить эту работу до выезда в поле я не успел.
Трудился я в одной комнате с рыжебородым Горелышевым, имевшим огненную бороду, украшенную широкой седой прядью волос. Он называл то, что я делал, наукообразной работой и рассказывал о том, как работал когда-то в партии В. А. Цареградского, как они целыми днями не слезали с седел, проделывая все маршруты верхом. Я спросил его: «А как же вы брали образцы?». Он ответил: «Мы их презирали».
Я вспомнил тогда разговор с Г. Г. Колтовским, производившим ряд лет геолого-рекогносцировочную съемку в масштабе 1:500 000. Он тоже рассказывал, что маршруты проделывает верхом, что лошадь способна пройти везде, где может пройти человек, и что он давно решил, что лучше заплатить за лошадь, если она где-нибудь погибнет в маршруте, чем изнашивать на полевой работе собственное сердце. Но я не поверил ему, что лошадь так способна преодолевать крутые подъемы и спуски и другие трудности пути, которые встречаются в геологических маршрутах. Кроме того, мне всегда казалось, что ехать на лошади где-нибудь над пропастью опаснее, чем проделывать такие маршруты пешком, и что речь следует вести не о том, чтобы заплатить за лошадь, если она погибнет, а о собственной готовности сложить свою голову вместе с конской, сохраняя свое сердце.
Но я не внял тогда голосу разума, может быть, из-за трусости, из-за боязни убиться, сорвавшись где-нибудь. Я никогда даже не думал о том, чтобы попробовать хотя бы проделать один-два маршрута на конях. Впрочем, я не думал об этом, скорее, не из-за трусости, а из-за того, что у нас всегда не хватало лошадей даже для перевозок от стоянки к стоянке, а думать о маршрутах на лошадях, конечно, не приходилось. Лошадей не хватало, и их почти всегда приходилось заменять собственным хребтом, а мысль о возможности обратного была бы несбыточной мечтой.
Шла первая весна Второй мировой войны. Газеты пестрели сообщениями о победах немцев, стремительно наступавших во Франции, внезапно оккупировавших Бельгию и Голландию, потом Норвегию и Данию, о разгроме английского экспедиционного корпуса в Дюнкерке. Наконец и Гитлер въехал в Париж на белом коне. В Компьенском лесу в знаменитом вагоне, в котором в 1918 году был подписан акт о капитуляции Германии, теперь был подписан другой — о капитуляции Франции, а вагон был увезен в Берлин.
Наш выезд некоторое время задерживался из-за несогласованности вопроса о кунгасах, необходимых нам для сплава, и об автомашинах для их перевозки от Колымского моста до моста через Берелех, откуда нам нужно было начинать сплав в район работ. Но вот, наконец, кунгасы были доставлены сплавом из Санга-Талона к Колымскому мосту, была выделена и автомашина с прицепом для их перевозки, и мы в середине июня двинулись на Берелех.
Недели за три до выезда я ездил на Бутугычаг, чтобы взаимообразно взять анероиды, буссоли и другие инструменты. Был у брата и его жены, видел свою новую племянницу Нэльку, или Наташку, которой было тогда около полугода.
Впервые в Усть-Омчуге
Еще в январе того же года на Иганджу с Бутугычага приехал брат по делам подсчета запасов. Наше начальство удовлетворило его просьбу о том, чтобы меня на некоторое время откомандировали ему на помощь для проведения подсчета запасов по месторождению. Работы было много, и я, должно быть, две или три недели занимался подсчетом запасов, помогая брату.
Значительную часть этой работы нужно было выполнить в Тенькинском горном управлении, которое было недавно создано и базировалось в не построенном еще поселке, в котором не было домов и вообще почти ничего еще не было. Но название уже существовало. Будущий поселок назывался Усть-Омчугом по названию речки, на устье которой в долине реки Детрин он строился.
Хорошо помню сумерки зимнего дня, когда мы на попутном грузовике прибыли с братом в этот будущий поселок. Покинув свой транспорт на левом берегу Детрина, мы пошли по дороге, уходящей вправо от главной сопки под прямым углом. Она вела вниз по течению Детрина в лес. Мы бодро зашагали по ней, но вскоре увидели, что дальше по ней ничего нет. Лишь слева светились окна домика радиостанции, стоявшей в стороне от дороги на невысокой террасе. Справа тут же бойко стучал движок крохотной электростанции. Зайдя туда, мы расспросили людей и узнали, что в поселке нет пока ни одной готовой постройки, кроме радиостанции и электростанции, что там пока только строятся два двухэтажных дома ИТР и здание управления (на месте здания управления сегодня в Усть-Омчуге стоит памятник В. И. Ленину. — Ред.), а управление сейчас ютится в большой палатке, которая стоит немного дальше по дороге на террасе, и поэтому ее снизу не видно. Живут же все вольнонаемные служащие управления в нескольких больших палатках, стоящих возле лагеря.
Туда мы и отправились. Поселили нас в специально отведенной для командированных палатке, стоявшей среди других таких же. Располагались палатки вольнонаемных служащих возле обнесенного колючей проволокой лагеря, в котором стояли бараки, населенные дорожными рабочими и плотниками, строившими поселок. Лагерь и палатки находились в полутора километрах от палатки управления на другом (левом) берегу впадающей в Детрин реки Омчуг. (Еще недавно в этом месте располагались склады торговой конторы поселка Заречный, ныне заброшенного, здесь же было управление прииска Курчатовского. — Ред.)
Поселок строился на участке, ограниченном с юго-востока берегом Детрина, вытянутом с юго-запада на северо-восток, с юго-запада — правым склоном долины реки Омчуг, а с северо-запада, севера и северо-востока — широкой излучиной русла реки Омчуг. Весь этот участок, на котором в дальнейшем рос поселок, имел площадь около 1 км 2.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

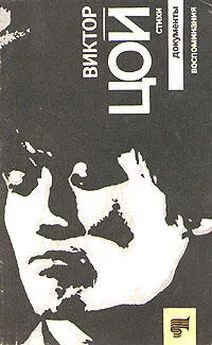


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)