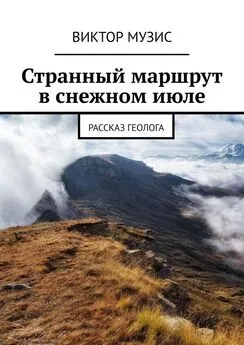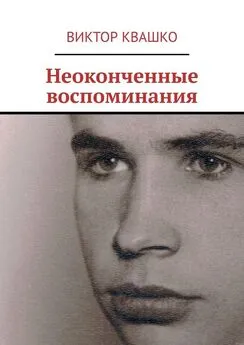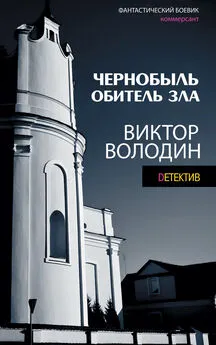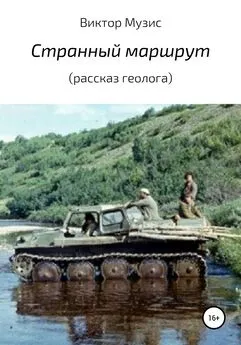Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На базе в это время оставался один моторист, который, конечно, видел, что Булгаков не вернулся и не вышел на связь по графику. Понимал, что нужно идти искать его, но не мог понять, куда нужно идти, и не знал, как бросить радиостанцию без присмотра. Так, ничего не решив, он дождался прихода солдат.
Мне пришлось побывать на базе еще один раз в сентябре. Булгаков рассказывая о своих приключениях, угостил нас брусничным вареньем и рассказал, что после своего похода он решил никуда больше не отлучаться, не уходить дальше того места, откуда видна база. Так он и бруснику для варенья собирал на склоне ближайшей сопки, откуда хорошо видна база.
В это последнее посещение радиостанции и Булгакова я обратил внимание на то, что домик, в котором она находилась, стоявший раньше в густой живописной роще под сенью деревьев, теперь стоял на голом месте. Лишь в стороне у русла реки остались зеленеющие тополя, осины и ивы. На мой вопрос Булгаков рассказал, как в грозу поваленная ветром лиственница упала на домик. Боясь, что какая-нибудь из поваленных лиственниц развалит постройку, он вместе с мотористом, как только кончилась гроза, спилил все остававшиеся деревья.
На Урене и на Нече
Лета на нашу долю досталось мало. Слишком много времени было потеряно на дорогу, заброску на Берелех, перевозку и подготовку кунгасов, ожидание начальства. При этом, как нарочно, на это время пришлись лучшие погожие дни, а на оставшееся для работы время выпало начало пасмурных, ненастных дней. Но времени больше уже нельзя было терять, приходилось работать и под дождями. Когда имелись у нас выкопировки из глазомерной карты Парфенюка, можно было прокладывать свои маршруты и в густом тумане или в тучах.
Начинали мы свои маршруты, как я уже упоминал, с уренской базы, где был продовольственный и вещевой склад на ручье Барачном, из которого мы и брали продукты, выходя в маршруты. Первые маршруты по водоразделам верховьев Урена, главным образом по гранитным сопкам Восточно-Нечинского массива, были пешие с ежедневным возвращением на базу. Но вскоре пришлось и удаляться с базы на запад, на юг и на восток.
Лошадей было мало. В разведрайоне их было только 6 голов, и давали нам их крайне неохотно. Обычно наше имущество только отвозили на одной или на двух лошадях на тот или иной участок, а потом мы уже сами перемещали свою стоянку, перетаскивая имущество на своих горбах. Работать было крайне тяжело. Из-за недостатка транспорта мы иногда оказывались без пищи, так как пополнить ее запасы за счет дичи удавалось редко. Ее было очень мало.
Однажды мы продолжили свой маршрут, уйдя из палатки на несколько дней и уже израсходовав захваченные запасы продовольствия. В один из дней мы встретились с Парфенюком. Вернее, он нас увидел, подкрался и взял нас на прицел, какяуже рассказывал. Когда он узнал, что у нас нет продовольствия, он рассказал, где у него спрятана часть продуктов: мука и еще что-то, кажется, мясные консервы.
Простившись с ним, мы отправились на указанное место, но из-за наступившей темноты поиски клада пришлось отложить до утра. Потом мы нашли его, сварили галушки без соли, и, когда приступили к завтраку, из-за кустов послышалось: «Что за люди?». Это уже Авраменко хотел взять нас в плен, как я уже вспоминал ранее.
С уренской базы мы обрабатывали большую часть района, начав и закончив здесь работу. Какое-то время в середине рабочего периода мы трудились в бассейне верхнего течения Большой и Малой Нечи и их притоков. Где-то на водоразделе между этими двумя я видел невероятно красивый коренной выход очень мощной жилы молочно-белого кварца. Это скала высотой метров 8, длиною около 6 и шириной (мощность жилы) около 4 м. Издали она похожа на красивую церковь, возвышавшуюся среди темно-зеленых зарослей кедрового стланика.
Другая, тоже мощная жила такого же молочно-белого кварца также образовала коренной выход, удивительно похожий формой, размерами и цветом на обыкновенную бязевую палатку. Мы шли где-то по водоразделу, кажется, между притоками Большой Нечи и вдруг увидели у себя на линии маршрута впереди палатку, полускрытую зелеными и высокими кустами кедрового стланика. Остановились, посоветовались о том, как быть: стоит палатка, людей не видно. Решили напасть — ведь не уходить же в сторону. Единственной вооруженной силой среди нас был я со своей ижевской бескурковой двустволкой. С двумя жаканами в стволах я подкрался через седловину между кустами кедрача, опять всматривался в палатку, подозревая — «не кварцевая ли это глыба?». Нет, мне показалось, что не кварц, а палатка. Тогда я бросился в атаку. С ружьем в руках я быстро выскочил на небольшой пригорок и оказался перед большой кварцевой глыбой.
Встречались там же и скалистые останцы мощных даек кварцевого порфира, возвышающиеся подобно древним каменным стенам, покрытым лишайниками на вершинах и на склонах невысоких сланцевых сопок с плавными линиями очертаний.
Перед своим отъездом В. Т. Матвеенко написал мне распоряжение о том, что в связи с поздним началом полевых работ продолжать их следует до снега и выходить из района с оленями, то есть с оленьим транспортом, когда начнется завозка в район запасов для зимней работы разведки. Но договора с орочами об оленьих перевозках все еще не было. Осенью они много раз приезжали по этому вопросу на уренскую базу, пили чай, разговаривали с Н. Н. Мальковым, что-то обещали, но договора не подписывали. Один раз уже по снегу приезжал к нам на оленях председатель или заместитель председателя Среднеканского райсовета якут Винокуров с солдатом, вооруженным винтовкой со штыком, и еще с каким-то сопровождающим. Винокуров тоже был вооружен крупнокалиберным винчестером.
Тогда только стало мне понятно, почему не был еще подписан у нас договор с орочами о перевозках. Предстояло собрание не коллективизированных еще орочей по вопросу коллективизации. Они разбегались по тайге, а председатель гонялся за ними, уговаривал явиться на собрание. Роль солдата не совсем понятна, но он предназначался, должно быть, для защиты председателя от «элементов». Ведь не для убеждения же граждан явиться на собрание сопровождал он председателя.
Но это было уже в октябре, а в июле приезжал как-то к Н. Н. Малькову ороч Иван Громов — охотник, который привез Н. Н. Малькову, как обещал, медвежью шкуру, содранную, как просил Н. Н. Мальков, с когтями и с хвостом. Не было на ней только ушей, а глазные, так же, как и ушные, отверстия, были тщательно зашиты из предосторожности, чтобы медведь не мог «подсмотреть или подслушать», какой охотник его убил, и чтобы не мог рассказать об этом какому-нибудь другому медведю, чтобы тот не отомстил за его смерть. Он взял за шкуру с Малькова 80 рублей. Показывал он нам еще шкуры волка и рыси, которые вез в Оротук, чтобы сдать на факторию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

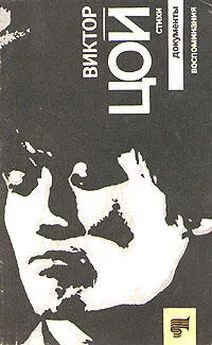


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)