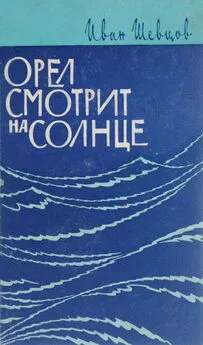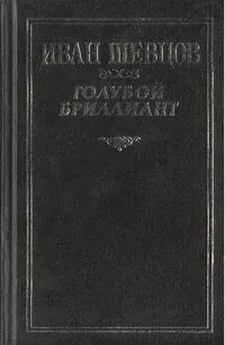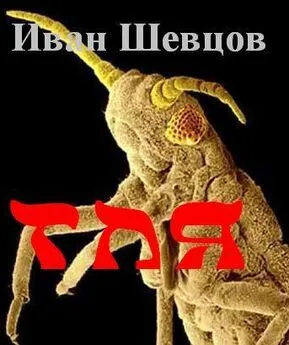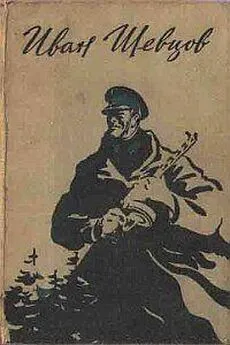Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце
- Название:Орел смотрит на солнце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце краткое содержание
«У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас — Родина, Советская Россия!»
О горном орле нашей отечественной литературы, о большом художнике слова Сергееве-Ценском и рассказывает книга Ивана Шевцова «Орел смотрит на солнце».
Впервые эта книга под названием «Подвиг богатыря» была издана небольшим тиражом в 1960 году на родине Ценского, в Тамбове, и уже стала библиографической редкостью.
В настоящее, массовое издание автор внес некоторые исправления и дополнения.
Орел смотрит на солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ценский с возмущением отвергал эти предложения. Он не мыслил себя вне России.
«Вы насквозь русский», — говорил о нем Горький, и в словах этих заключались глубокий смысл, большая правда. Мало кто из его современников так хорошо знал историю своего народа, его душу, обычаи, быт, как знал Сергеев-Ценский.
Сверстники Ценского и его собратья по перу, оказавшиеся на крутом повороте истории за рубежом родной земли, тоже считали, что неплохо знают Россию, и, наверно, любили ее, но у них не было такой привязанности к Отчизне, как у Ценского. Я говорю не о бабаевых и Ознобишиных — у них никогда не было родины. Имеются в виду те русские интеллигенты, которых захлестнула стихия панического бегства и которые сами не ведали, куда и почему бегут. Плохо знали они свой народ, не очень верили в него и не видели преображения России.
Этого не случилось с Сергеевым-Ценским, как не случилось и с его любимыми героями художником Сыромолотовым и учителем Ливенцевым. И через 40 лет писатель смог с полным правом сказать:
Мне не случалось Родину терять
И жить за рубежом не приходилось.
Как мог бы я поверить и понять,
Чтоб там, за рубежом, вольнее сердце билось!
Стыдом бы счел я верить в этот бред!
Я вижу Родину и новой и большою,
А потому и в восемьдесят лет
Остался телом прям и юн душою.
Где б ни был я, везде найдут меня
Свои поля, свои моря и горы:
Ведь даже солнцу не хватает дня,
Чтоб оглядеть моей земли просторы!
Я знаю много слов, и их удельный вес
Известен мне: слова — моя стихия;
Нет равного! Оно, как гром небес,
Оно, как девственный, бескрайний мощный лес,
И круглое, как шар земной, —
Россия!
В апреле 1923 года Сергей Николаевич писал А. Г. Горнфельду: «Я решил никуда за границу не ехать, а сидеть дома и писать от скуки что-нибудь бесконечное… Занимаюсь коровьим хозяйством, чем и существую».
«Коровье хозяйство» было любопытным эпизодом в жизни писателя. Как говорилось выше, в годы первой империалистической войны Сергеев-Ценский ничего не писал. Жил по-прежнему в одиночестве, семьей не «обзаводился» и никуда из Крыма не выезжал. Жил на гонорары, полученные от издания своих книг. Никаких доходов и капиталов, никакого имущества, кроме небольшого домика, он не имел. Именно в те годы — в самый канун революции — один алуштинский делец, явившись в дом писателя, развил перед ним «грандиозный план» благотворительной деятельности на благо русского народа.
— Войне конца-краю не видать, целые эшелоны раненых прибывают в Крым, — говорил предприимчивый ловкач Сергею Николаевичу. — Открываются, стало быть, новые госпитали у нас в городе. Раненым нужно молоко. Много молока потребуется. А где его взять?.. Вот вопрос дня, дорогой Сергей Николаевич. А представьте себе, что у нас ферма, молочная ферма… То есть у вас… Стадо коров. Это ж верный капитал! Продукт, он всегда в цене, всяк живой человек норовит поесть, да еще и каждый божий день. Вот оно как получается, дорогой Сергей Николаевич… А корова, она недаром кормилицей зовется. Расходу на нее никакого: пастбища у нас вон какие! Доход чистейший! А что касаемо ухода, так, пожалуйста, я всегда к вашим услугам: подоить могу и молоко сбыть — это мы мигом. И пастушонков найдем по сходной цене — о-го-о! Сколько угодно!
— Что ж вы предлагаете? — перебил его пылкую речь Сергей Николаевич.
— Давайте создадим молочную ферму. И немедленно. Пока цена на коров не поднялась.
Сначала Сергей Николаевич лишь посмеивался над этой в общем-то авантюрной затеей, не принимая всерьез доводы дельца. Но тот был ловок и хитер, умел «обделывать» и не такие «делишки». Поняв, что «надежный капитал» не прельщает писателя, он стал играть на других струнах.
— В конце концов не обязательно продавать молоко. Его можно задаром отдавать госпиталям, приютам. Бедные солдаты, малютки-сироты… Они так будут благодарны… Многострадальные сыны отечества. Они оч-чень нуждаются в заботе и внимании.
И Ценский сдался, как говорят, капитулировал. Он давно искал для себя какого-нибудь полезного дела. И теперь, казалось, такое нашлось. Хотя и не творчество, а все-таки дело, какой ни есть, а труд. Прельщала его не роль хозяина фермы, роль, которую отводил ему автор «грандиозного замысла», а должность пастуха. Сергей Николаевич так и сказал:
— Только уж без пастушонков — сам буду пасти.
И вот весной, когда рыжие пожухлые горы вдруг засверкали желтыми веселыми подснежниками, а в кустарниках стала пробиваться первая зелень, за Алуштой по диким местам вдоль Ялтинского шоссе уже бродит небольшое стадо отощавших за зиму коров. Возле них высокий смуглый и тоже худой, в старых сапогах, в изрядно поношенном сюртуке, с книгой в руках задумчивый пастух. Весеннее солнце приятно греет высокий, без единой морщины лоб, а южный морской, досадно ненужный ветер треплет густые черные волосы, вылезшие из-под картуза, где им, должно быть, тесно. Иногда он, увлекшись книгой, садится под кустом на сухую прошлогоднюю траву и читает запоем, забыв обо всем. Свежей травы еще мало, и в поисках ее коровы расходятся по огромной территории. Тогда, спохватившись, пастух отрывается от книги и, недовольно покрикивая, начинает собирать стадо. Вспоминаются ему старый пастух и маленький пастушонок из его же рассказа «Поляна», и в густых черных усах прячется долгая и грустная улыбка. Ему смешно и грустно одновременно: так нелепо проходит дорогое время, случайно и безалаберно складывается жизнь. Он подтрунивает над своей судьбой и сам не знает, кого в ней винить. Он отлично видит комичность своего положения. Ему бы сидеть сейчас зй столом и писать начатую им еще в 1912 году эпопею о преображении России. Но он запнулся, не смог разобраться в происходящем. Он видит, что в истории России совершается величественное, подобное геологическому сдвигу, но он еще не может все охватить и взвесить. Появились новые люди и среди них такие, которых не сразу поймешь. Нужно к ним приглядеться. А со стороны трудно — надо быть с ними, участвовать в их делах, пуд соли вместе съесть. Тут-то и сказалась уединенность Сергеева-Ценского от общества.
Капитан Коняев отлично ясен — писатель знает его давно. И Калугина знает. А вот матросов, которые схватили Коняева, сорвали с него офицерские погоны, а самого арестовали и увезли на машине, он понимает не до конца. Писатель знает тот мир, который разрушают революционные матросы. Мир этот ненавистен и ему, Сергееву-Ценскому. Но он хочет понять, спешит образно увидеть, конкретно и живо представить себе и новый мир, который будет построен революционным народом на месте старого.
Да, ему бы понять и писать, а его в Алуште называют «молошником». Обидно и больно, хотя он всеми силами старается заглушить и боль и обиду, убеждая себя в том, что он вот тоже трудится и труд его приносит пользу людям. Ежедневно к нему приезжают за молоком из госпиталей и детского приюта, — он отдает туда молоко бесплатно и совсем не подозревает, что его помощник (он называет себя «компаньоном») все-таки ухитряется сорвать с опекаемых определенную мзду. Сам писатель далек от всего этого: ферма только считается его фермой, он просто пастух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: