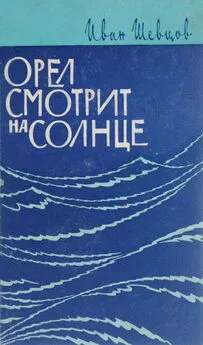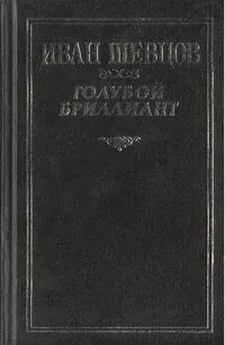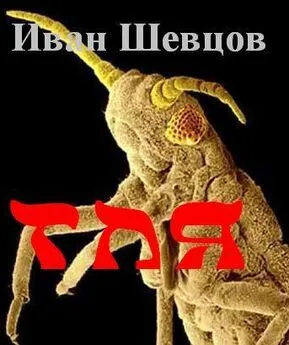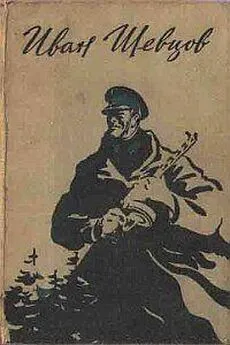Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце
- Название:Орел смотрит на солнце
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия»
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Шевцов - Орел смотрит на солнце краткое содержание
«У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас — Родина, Советская Россия!»
О горном орле нашей отечественной литературы, о большом художнике слова Сергееве-Ценском и рассказывает книга Ивана Шевцова «Орел смотрит на солнце».
Впервые эта книга под названием «Подвиг богатыря» была издана небольшим тиражом в 1960 году на родине Ценского, в Тамбове, и уже стала библиографической редкостью.
В настоящее, массовое издание автор внес некоторые исправления и дополнения.
Орел смотрит на солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Случилось так, что Сыромолотов одновременно писал «заказной» портрет богатого немца Куна и юной девушки Нади Невредимовой, связанной с передовой, революционно настроенной средой. Во время сеансов художник разговаривает с «моделью». В обоих случаях разговоры касаются политической обстановки в стране, жизни-народа (дело происходит в канун империалистической войны). Перед художником были представители двух миров. «Разителен и увлекателен для него был прежде всего контраст между конченым человеком — старым Куном и этой — только что начавшей жить».
Не сразу понимает художник, что будущее России — а судьба родины никогда не была для него безразлична — за «этой только что начавшей жить», то есть за Надей Невредимовой и ее друзьями. Он внимательно прислушивается к разговорам и невредимовых и кунов, взвешивает, обдумывает. Интересы общества начинают его волновать еще больше, и это не может не отразиться на его творчестве. Именно представители будущей России и были первопричиной зарождения новой, главной картины Сыромолотова — «Штурм Зимнего». Как это случилось? Художник пишет с Нади этюд. Говорит о революции. Художник восхищен пылкой девушкой, которая готова быть в рядах революционных бойцов. Он вдруг спрашивает Надю:
«— А с красным флагом впереди толпы вы могли бы идти?
— Конечно, могла бы! Отчего же нет», — решительно отвечает Надя.
Художник пытается представить Надю впереди революционного народа, с красным флагом. Демонстрация рабочих, и впереди — Надя. А что, если попробовать? На муштабеле закреплен красный шарф. И вот Надя — с импровизированным флагом в руках. Получается живописно. Надя уже видит новую картину и высказывает догадку: «Рабочая демонстрация». Да, она высказала то, что зрело у художника.
Так родился великолепный замысел, воплощение которого в конкретные художественные образы давалось нелегко.
Ценский показал творческий процесс художника от зарождения замысла до окончательного его исполнения.
«Демонстрация» — это было всего лишь начало. Война приостановила работу над картиной: она как бы парализовала художника. Он видел, что разрушения и убийства творят «люди, претендующие на звание культурнейших людей на земле и украшающие себя за явный вандализм почетными «железными крестами»… Нужно ли после этого то искусство, которому я отдал всю свою жизнь? Нет, не нужно!»
К такому выводу Сыромолотов пришел после долгих и тягостных размышлений. Он остановился на лозунге: когда говорят пушки, музы должны молчать. (Как и Ценский в годы первой мировой войны.) Думая о начатой картине «Демонстрация», он так рассуждал: «…Война, которая началась, это ни больше, ни меньше, как акт самоубийства, то есть самоуничтожения общечеловеческой культуры… Разрушенный Реймский собор, сожженная библиотека в Лувене и прочее и прочее — это только проявление самоубийства, не говоря об уничтоженных культурных городах, о десятках, сотнях тысяч убитых, об изувеченных телах и душах, об ужасе младенцев, оставшихся без матерей и отцов… Что же можно сделать одному человеку, если на самоубийство решились народы? — спрашивал художник, не понимая, что не народы решились на самоубийство, а их преступные правительства. В этом была ошибка живописца, считавшего, что он один против войны. — Вот я один из своего угла трещу, как сверчок: «Вы видите эту толпу людей на моем холсте? Они идут безоружные против вооруженных. Это бессмертная человеческая мысль, поднявшаяся против дикой силы; это вдохновенный взрыв высокой человечности, и в этом взрыве нетленная красота!..Ведь это первый только акт картины, а второй — залп, еще залп, — и вся толпа демонстрантов побежит…»
Итак, Сыромолотов видит бессилие искусства перед дикой и жестокой силой войны. Тогда он еще не понимал, что вооруженному дикарю народ может противопоставить свою более грозную силу, что народ сильнее военных авантюристов и что искусство может и должно воодушевить, поднять массы на борьбу со злом. К такому выводу Сыромолотов придет гораздо позже. А пока «… это был первый случай в его живописи, — то есть жизни, — что она потускнела перед чем-то другим, несравненно более значительным, которое надвинулось неотразимо и от которого стало тесно душе».
Это была война. «Он всячески пытался убедить себя, что его «Демонстрация» важнее, чем начавшаяся война, однако не мог убедить, тем более, что ведь сам-то он не пошел бы с красным флагом впереди толпы рабочих под пули полицейских и вызванных в помощь им солдат». Такой шаг он считал бессмысленным самоубийством.
Сыромолотов — любимый герой Сергеева-Ценского. Над его образом писатель работал с особой тщательностью. Сыромолотов — это богатырь русского искусства. Ему было душно в Симферополе и во всем Крыму в тяжелые годы империалистической войны. Его тянет туда, где происходят главные события. В одной из тетрадей литературного архива Сергеева-Ценского есть такая запись: «А что если Сыромолотова-отца отправить на фронт, а 1а Верещагин, чтобы там на месте боев он написал картину схватки русских с немцами, — только большую картину, полную экспрессии, вроде «Битва при Ангиари» Монардо. Это было бы, вообще говоря, смело со всех точек зрения и в то же время последовательно в смысле обрисовки такого художника, как Сыромолотов. Он может погибнуть от мины или снаряда, но зато он завершится, закруглится. В «Лодзинском мешке» или в «Прасныше» это могло бы случиться. Кстати, там может оказаться и Надя Невредимова. Это значительно расширит тему эпопеи».
Действительно, сюжетный ход довольно увлекательный. Но через некоторое время в этой же тетради появляется решительная запись: «Сыромолотов на фронт не едет (подчеркнуто автором. — И. Ш. ). Ему туда незачем ехать. Туда едет целый отряд художников-баталистов под предводительством Самокиша».
Сыромолотов едет в Петроград, туда, где решалась судьба России. Писатель видит, что главное в жизни и творчестве Сыромолотова не баталия, не изображение, пусть даже негативное, мировой бойни. Такой честный художник, как Сыромолотов, с его явно антивоенными демократическими взглядами, не мог воспевать преступную империалистическую войну. Вспомним в этой связи яркий исторический факт: прирожденный художник-баталист М. Б. Греков был участником первой мировой войны. Но о ней он не написал ни одной картины. Совесть художника и гражданина не позволила. Зато никто в изобразительном искусстве не воспел так героику гражданской войны, как это сделал в своих полотнах Греков. И Сыромолотов не мог бы поступить иначе. Ехать же ему на фронт лишь затем, чтобы погибнуть как Верещагин, было нелогично. Совершенно иную мысль несет в себе этот монументальный образ. Если Греков становится певцом героики гражданской войны, то Сыромолотов воспевает революцию. Вот что значит для художника служить народу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: