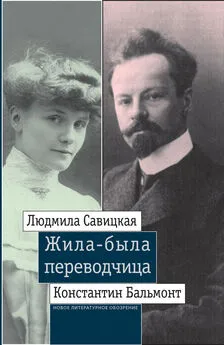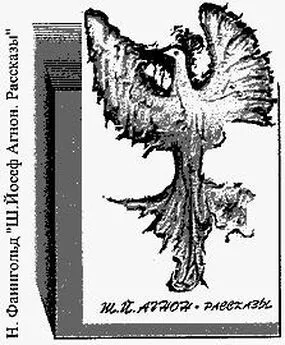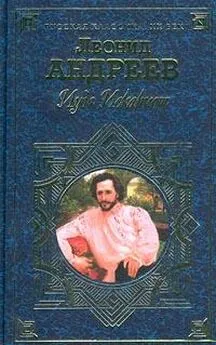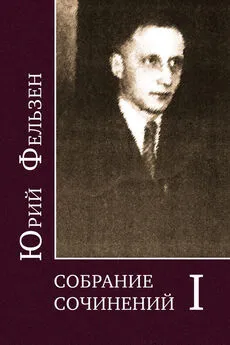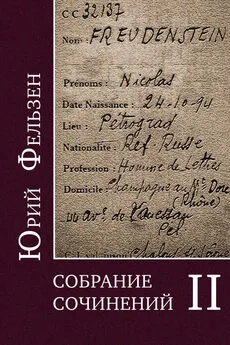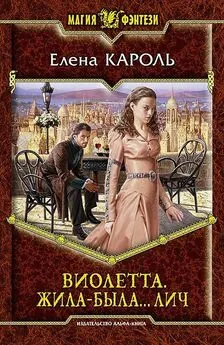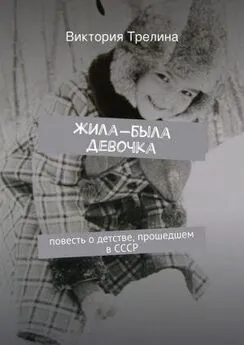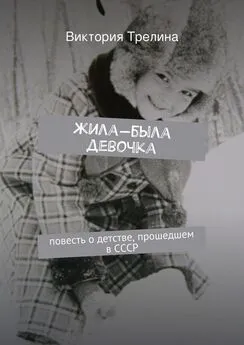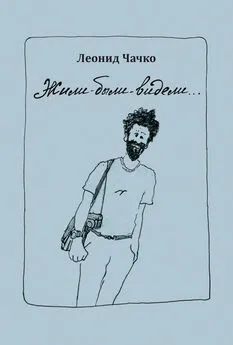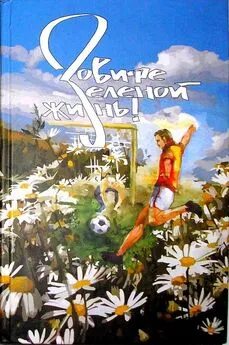Леонид Ливак - Жила-была переводчица
- Название:Жила-была переводчица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1328-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ливак - Жила-была переводчица краткое содержание
Жила-была переводчица - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Та же маргинальность самосознания сквозит в романе, который Людмила задумывает в 1922 г., видимо под впечатлением знакомства с Родкером, хоть написание его и растянулось на три года из‐за текущей работы [165] Savitzky – Spire (30.I.1923); Savitzky L ., Spire A . Une amitié tenace. P. 378.
. С Жан-Ришаром Блоком она делится опасениями, что этот роман, озаглавленный «Entre-Deux» («Меж двух»), оттолкнет даже тех читателей, которые принимают на ура описанные с мужской точки зрения отклонения от сексуальных норм в романах Жана Кокто. В «Entre-Deux» прослеживается внутренняя жизнь женщины, равно любящей двоих мужчин и одновременно с ними сожительствующей. Однако типичная для культуры русского модернизма ситуация ménage-à-trois представлена здесь не только как явление этически и философски нормальное, но и с сугубо женской точки зрения героини-повествовательницы, которая инициирует и активно выстраивает любовный треугольник, оттеняя мужских персонажей [166]. Как и опасалась Людмила, роман остался в рукописи, поскольку его не приняли к печати ни в журналах («Europe», «La Revue européenne»), ни в издательствах («Rieder», «Kra», «Grasset»), обслуживавших французскую модернистскую культуру, а о публикации текста за ее пределами не могло быть и речи. Однако те же журналы и издатели забрасывали Людмилу просьбами о переводах и критических статьях [167] Savitzky – Spire (9.V.1922; 30.I.1923); Savitzky L ., Spire L . Une amitié tenace. P. 322, 378–379.
, что значительно облегчило другой посреднический проект, объектом которого стал ее старинный друг – Константин Бальмонт.
С конца 1921 г. Людмила расширила свою деятельность посредницы между англоязычными модернистами и французской публикой, обратившись к бегущим из Советской России литераторам. Она не наведывалась в Россию с 1902 г., однако после большевистского переворота Россия сама нашла ее в Париже, куда после многих скитаний добралась и Анна Петровна Савицкая. Ее рассказы о пережитом, а также поступающие известия о судьбах друзей и знакомых сказались на уже упоминавшемся политическом «поправении» Людмилы [168]. К факторам, повлиявшим на эволюцию ее политических взглядов, следует отнести и чтение русской эмигрантской прессы – парижской, берлинской, рижской и пражской: в бумагах Савицкой хранятся многочисленные вырезки и целые номера эмигрантских газет и журналов [169].
Подобно многим из тех, кто в той или иной мере был причастен эстетическим, этическим и философским ценностям русского модернизма, Людмила переживала российскую катастрофу как историческую угрозу миноритарной культуре, до сих пор наполнявшей смыслом ее творческую деятельность и жизненное поведение. Отсюда, видимо, ее желание не только сохранить эти ценности путем их литературной кодификации, но и вписать их в историю транснационального модернизма. Так, к началу 1920‐х гг. относится ее работа над антологией русской модернистской поэзии, куда вошли переводы из А. Блока («Двенадцать»), З. Гиппиус, А. Герцык, В. Брюсова, А. Ахматовой, Вяч. Иванова, С. Городецкого, С. Есенина, В. Каменского, И. Эренбурга, В. Маяковского, О. Мандельштама и А. Мариенгофа [170] Рукописи переводов хранятся там же.
. Не совсем ясно, все ли переводы были сделаны в это время, так как Людмила никогда не теряла из виду литературную продукцию русского модернизма, общаясь с его носителями, жившими или бывавшими в Париже, и получая от них книги и журналы. Следует также отметить, что ее русский язык не носил видимых следов длительного пребывания за рубежом, о чем свидетельствуют заметки, сделанные ею по-русски на сохранившихся черновиках переводов [171]. Однако страх потери чувства родного языка преследовал Людмилу тем сильнее, чем регулярнее к ней обращались новоприбывающие писатели-эмигранты с предложением сотрудничества. Георгий Гребенщиков, чьи «Чураевы» заинтересовали уроженку Урала сибирской тематикой, писал Людмиле в надежде, что та станет его переводить (7.II.1923):
Chère Madame Savitzky! Прежде всего позвольте возразить против Вашей сугубой скромности. Вы не только неплохо пишете по-русски, но Вы пишете безупречно и даже превосходно во всех отношениях. Даже Ваш почерк так же ясен, подобран и прост, как и Ваша мысль. Повторяю, что я подошел к Вам впервые не из вежливости, не из лести, а по побуждениям высшего порядка. Я почувствовал здоровую, родную и свежую силу и, видимо, я не ошибся. Я поздравляю себя с такой находкой, как Вы, и только не хотел бы, чтобы Вы в дальнейшем взяли свои слова назад. Но я думаю, что тот способ, который мы избрали для обмена мыслями, то есть наши труды, – самый верный и надежный [172] SVZ 12. Famille et amis: lettres en russe. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. Людмила прочитала доклад о Гребенщикове в модернистском кабаре «Хамелеон» (9 ноября 1923). Однако переводить его не взялась, видимо, из эстетических соображений, так как художественный «консерватизм» Гребенщикова, по его же выражению в процитированном письме, не мог импонировать ее вкусам. Машинопись доклада («Georges Grebenshchikov») хранится в: SVZ30. Littérature russe, traductions et documents. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
.
Общение Людмилы с Бальмонтом, сошедшее на нет с возвращением поэта в Россию в 1913 г., возобновилось после его повторной эмиграции. 27 февраля 1922 г. Бальмонт пишет ей в Париж из Бретани:
Люси, спасибо Вам за Ваши большие письма. Вы самый верный друг, и только Вы из друзей так часто пишете мне и даете на расстоянии чувствовать, что Ваше дружеское чувство не погасает от победительного действия географии. Вообще же Русская дружба от географии совершенно увядает. Я полагаю даже, что потому и Русская история такая скудная и неинтересная, что Русская география такая обширная.
С обновлением регулярного общения в резко изменившемся культурном контексте (сюда же следует отнести и обмен ролями, поскольку теперь наставником в их паре выступает Людмила – как проводник Бальмонта во французском литературном поле) прошлые взаимоотношения корреспондентов, особенно первое знакомство в российской глубинке и краткая любовная связь 1902 г., приобретают новую актуальность и предстают в новом свете. Параллельно желанию Людмилы зафиксировать ценности русской модернистской культуры в поэтической антологии Бальмонт переосмысливает корочанский эпизод, некогда реализовавший модернистскую «новую мораль» в ситуации вынужденной ссылки, которой оба любовника в свое время так тяготились. 1 января 1922 г. он пишет Людмиле: «Это – редкостный дар Судьбы, что я опять нашел Вас, и опять Вы поете в моей душе – так же, милая, как там, в незабвенные весенние дни, в сказочной Короче». Корочанские встречи теперь становятся не просто литературным фактом – каким были и раньше в рамках эстетически значимого поведения людей модернистской культуры, – но фактом ушедшей эпохи, значимым в первую очередь исторически, подобно проекту антологии. «Милая Люси, Ваши письма – лучевые полосы, входящие в мое окно ласкающе-напоминательно», – пишет ей Бальмонт 28 июня 1922 г.:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: