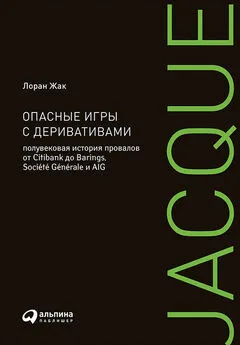Константин Провалов - В огне передовых линий
- Название:В огне передовых линий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Провалов - В огне передовых линий краткое содержание
Книга рассчитана на массового читателя.
Из-за некачественного скана книги местами утеряны фрагменты текста, которые будут обозначены как ?…?.
В огне передовых линий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обратились за помощью в Ворошиловградский обком партии. Категорический отказ: в прифронтовой полосе никто не должен оставаться, а если единицы и остались — хлебные карточки на них не положены. Еще одно письмо в обком: приезжайте сами и посмотрите.
Приехал первый секретарь Ворошиловградского обкома А. И. Гаевой. Полазили мы с ним по передовой, походили по домам в шахтерских поселках… Антон Иванович много беседовал с женщинами. «Чего же вы не уходите?» — «А зачем уходить? Красноармейцы-то стоят…» И так — в каждой хате, куда мы заходили.
В поселке ШтерГРЭС познакомились с фельдшером М. В. Литвиновой, пожилой интеллигентной женщиной. Дом Марии Васильевны стоял метрах в двухстах от передовой, и она устроила у себя что-то вроде сборного пункта раненых. Эвакуация их проходила ночью. А днем получившие ранения бойцы и командиры находились под присмотром и материнской опекой этой прекрасной советской патриотки.
Мария Васильевна, как и остальные жители ШтерГРЭСа, хлеба не получала. В то же время она отдавала раненым все до крохи из своих скудных запасов. И другие женщины поселка старались тоже как-то подкрепить вышедших из боевого строя бойцов. Смотришь, одна несет им пяток яиц от чудом сохранившейся курицы, другая — парочку тоже невесть как уцелевших яблок.
После посещения «лазарета Литвиновой» Гаевой сказал мне: «Выделим муки. Тонн пятьдесят. Больше, вы понимаете, не сможем…» Тонн сорок мы действительно получили. Этот хлеб хорошо поддержал солдаток и их ребятишек, так и не покинувших прифронтовую зону.
Хлеб у нас в народе всегда ценился больше, чем просто продукт питания. Он был, ко всему прочему, мерилом совести, мерилом гражданственности. Сами полуголодные, женщины шахтерского края подкармливают наших бойцов. В Красном Луче к новогоднему празднику затевают собрать для красноармейцев и командиров 383-й стрелковой дивизии продуктовые посылки. И собирают ведь! Многие сотни ящичков, мешочков, кулечков, в которые положено все, что, как тогда говаривалось, бог послал. А личный состав дивизии единодушно принимает решение: ежедневно отчислять от солдатской хлебной пайки 200 граммов в пользу блокадного Ленинграда. Причем решение это было принято не на митингах и собраниях — оно прошло по окопам от бойца к бойцу и явилось ко мне из уст комиссаров полков. Правда, за эту нашу инициативу я получил от командарма, и правильно получил, хорошую нахлобучку, но такая красноармейская резолюция была, и я, как командир дивизии, горжусь ею до сих пор. Когда мы говорим о нерушимом единстве нашей армии и народа, мне на ум почему-то всегда приходит вот та тесная, в огне закаленная, смычка нашей дивизии с жителями шахтерского города Красный Луч, со всей страной.
Дух сплоченности, дух социалистического коллективизма проявлялся во всем, даже в мелочах. На всю жизнь в память врезалась такая вот сценка. Я ехал с передовой на командный пункт дивизии. Наступила уже весна 1942 года. Время самое голодное: скудные запасы продуктов у людей уже истощены, а огороды даже еще и не вскопаны, ничего не посажено. На окраине города вижу толпу женщин. Останавливаюсь. Мы, мужчины, иногда шутим: три женщины — уже базар. А тогда их было не меньше сотни, а шума, бестолковщины — нет. В чем дело? Оказывается, в городе уцелели четыре стельные коровы, и молоко от них теперь распределяется по спискам для детей.
Я ничего не сказал, пошел к машине. А вдогонку мне — звонко, как самая весенняя песня:
— Да вы не беспокойтесь, Константин Иванович, мы — по справедливости! Мы и раненым оставляем…
Удивительный, бесценный у нас народ!
А раненые у нас действительно были. В том смысле, что мы оставляли у себя в медсанбате не только тех, кто получил легкое ранение, но и тех, кого вообще-то следовало направлять в тыловые госпитали. Почти все раненые просили врачей: «Не отсылайте в тыл! Я здесь быстрее поправлюсь…»
Дивизионным врачом у нас был военврач 1 ранга В. Т. Устинов. Он прошел с полевыми лазаретами всю гражданскую войну, потом практиковал в селе, дослужился до заведующего райздравотделом. Организатор медицинского обеспечения боя — лучше не надо. Так вот, вместе с командиром медико-санитарного батальона военврачом 2 ранга Я. К. Ишко (он сейчас доктор медицинских наук) Устинов организовал две подвижные группы первой помощи раненым. Одну из них возглавляла хирург И. Я. Наймарк, вторую — хирург А. П. Ануфриева. В каждую такую группу входили хирургическая сестра (Евдокия Шунтовая и Вера Либединская), два санинструктора, три санитара и шофер крытой автомашины, на которой передвигался этот летучий отряд «скорой помощи».
Санитарные «летучки» направлялись на самые жаркие участки боевых действий, где обычно бывает больше всего раненых, и там, на месте, обрабатывали довольно-таки серьезные раны. Оперативно и квалифицированно работали также и санинструкторы подразделений. Достаточно, например, сказать, что только одна 19-летняя Надя Федорченко за время обороны на Миусе вынесла с поля боя более 150 раненых бойцов и командиров вместе с их оружием.
О чем я веду речь? Известно, что сохранность здоровья раненого, шансы на восстановление этого здоровья зависят прежде всего от оперативности и квалификации первой помощи. Быстрее ее окажешь — быстрее человек встанет на ноги. А у нас в дивизии для такой помощи были созданы хорошие возможности. Поэтому абсолютное большинство ранений не имели отягчающих осложнений, и мы решили часть раненых, подлежащих эвакуации в тыл, оставлять для лечения у себя. Устинов подобрал до десятка изолированных друг от друга помещений (в целях безопасности больных в случае артналета противника) и развернул в них до 60 коек. Недостатка в обслуживающем персонале этот полулегальный госпиталь на восточной окраине Красного Луча, естественно, не испытывал. И именно этот госпиталь имели в виду женщины, когда кричали мне вдогонку, что молоко они распределяют по справедливости.
Чтобы потом уж не возвращаться к этому, здесь следует, видимо, рассказать современному читателю о нашем фронтовом житье-бытье. Проходило оно в основном, как я уже говорил, в землянках. Шахтеры, привычные и к крепежно-плотницким, и к земляным работам, соорудили добротные жилища. И просторно, и тепло, и уютно. В землянках же устроили себе бани — по одной на каждый батальон. Обязательно с парилкой. Парились через каждые 10―12 дней.
Была в дивизии своя прачечная, в которую кроме штатного состава приходили работать десятки добровольных помощниц-краснолучанок. Так что солдатское белье всегда было тщательно выстиранным и заштопанным. Обувь чинили прямо в ротах. Не допускали, чтобы кто-то ходил в прохудившихся сапогах (не знаю почему, но ботинок с обмотками в дивизии не было, их мы вообще не получали).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
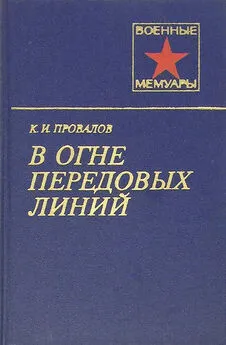

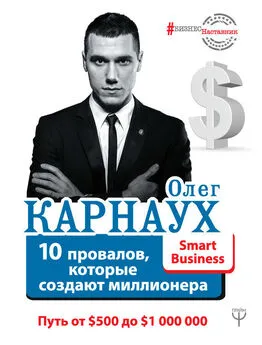

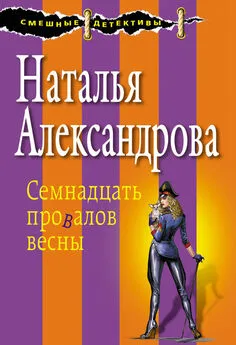
![Константин Сидоров - Вокзал в передовом государстве [litres самиздат]](/books/1149510/konstantin-sidorov-vokzal-v-peredovom-gosudarstve.webp)