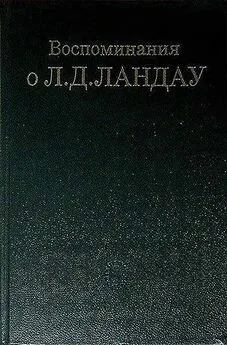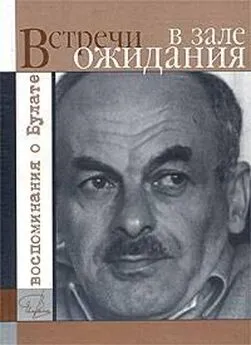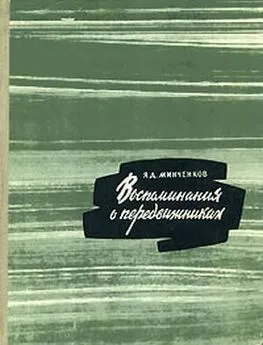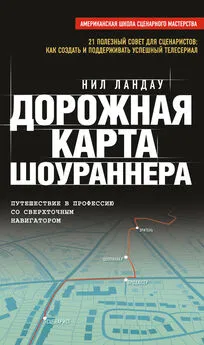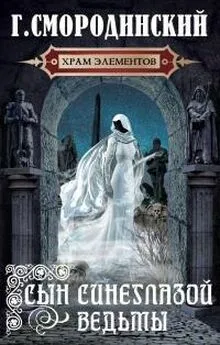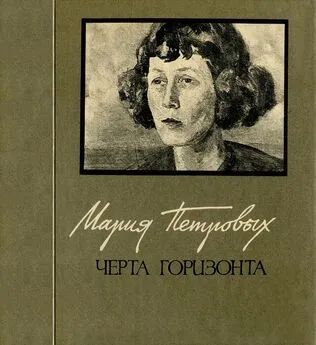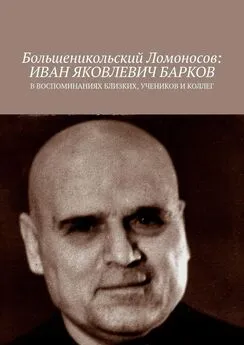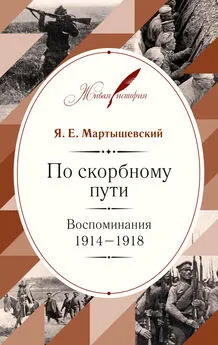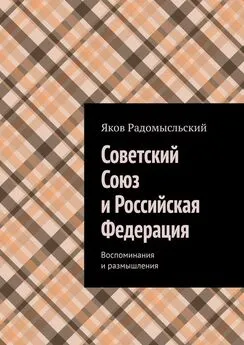Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Название:Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-02-000091-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау краткое содержание
Издание рассчитано на физиков, историков науки и широкий круг читателей.
Воспоминания о Л. Д. Ландау - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Курс Ландау и Лифшица создавался десятилетиями, а работать с учениками Лев Давидович начал с самых молодых лет. Хотя он держался с учениками очень просто и со многими был на «ты», все мы воспринимали его как неизмеримо старшего во всех отношениях. Он не любил обращения по имени и отчеству. Мы звали его в глаза и за глаза просто Дау.
Начинающий должен был сначала сдать так называемый теорминимум, т. е. экзамен по всем основным разделам нашей специальности. При этом беспощадно отсеивались те, дальнейшая работа которых была бесперспективна для науки и для них самих. Надо сказать, что Дау редко ошибался в ту и в другую сторону. Особенно жестко доставалось от него недостаточно прилежным — здесь он не ошибался никогда.
Сдав теорминимум, начинающий получал право докладывать на семинарах. Воспитательное значение этих докладов было неоценимо: мы узнавали, что значит прочесть и понять чужую статью. Под градом вопросов, возражений и насмешек со стороны Дау в адрес докладчика и автора статьи не всем и не всегда удавалось благополучно доложить. А за провалом следовал немилостивый разнос! Словом, метод воспитания был не тепличный.
Одновременно с участием в семинарах начиналась научная работа. Дау не жалел времени для разъяснения трудных вопросов впервые (и не впервые) приступающему к работе, но и сам был требовательным. Очень доставалось за ошибки в вычислениях — Дау утверждал, что, понимая физическую идею, лежащую в основе расчета, надо уметь самому находить у себя «завирание». Кроме того, он не щадил лодырей, говоря, что они губят свои души. Но как любил Дау тех, кто оправдал его надежды! Вообще не надо представлять себе Дау как сухаря-наставника, живущего только наукой. Страх, который Дау внушал ученикам, быть может, преувеличен моим субъективным восприятием, да и характер Дау с годами несколько смягчился.
Можно сказать, что Льву Давидовичу удалось осуществить все, что составляет идеал педагога, кроме одного: ни один ученик не превзошел своего учителя.
Б. Г. Лазарев
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Встретился и познакомился я с Львом Давидовичем в 1934 г. в Харькове, когда приехал из Ленинграда в УФТИ, в криогенную лабораторию к Льву Васильевичу Шубникову набираться криогенного экспериментального, методического, организационного, технического опыта. Нужно это было в связи с планировавшимся созданием криогенной лаборатории в Уральском физико-техническом институте. Криогенная лаборатоия УФТИ была первой лабораторией в нашей стране, работавшей с жидкими водородом (с 1931 г.) и гелием (с конца 1932 г.). К 1934 г. работа шла полным ходом. Шли работы по сверхпроводимости, по аномалиям теплоемкости и магнитных свойств ряда веществ, которые потом станут называться антиферромагнетиками (в развиваемой в то время Львом Давидовичем теории). К этому времени криогенная лаборатория УФТИ уже по-своему играла роль Лейденской лаборатории, которая, как известно, охотно принимала на длительные сроки приезжающих в нее поработать в области низких температур и этим выполнила очень важную международную задачу. Кстати, в Лейдене в 20-х годах по нескольку лет работали И. В. Обреимов, Л. В. Шубников, О. Н. Трапезникова. В 1934 г. в УФТИ работал приехавший из Англии М. З. Руэман над техническими задачами применения глубокого охлаждения.
Лев Васильевич встретил меня очень благожелательно, хотя, пожалуй, вначале удивился смелости темы —найти ядерный парамагнетизм вещества из измерений его магнитной восприимчивости при гелиевых температурах, но, узнав о практически неограниченном времени, которое на это давалось, предоставил мне самые лучшие условия работы. По идее таких измерений, принадлежавшей Я. Г. Дорфману, в лаборатории которого я работал, возможными веществами могли быть такие диамагнитные вещества, как гидрид лития, метан и водород, предпочтение он отдавал метану. Работа проведена была на водороде (нормального ортопара состава), который в отличие от других веществ получали практически идеально чистым, что, естественно, было одним из жестких требований эксперимента. В дальнейшем выяснилось, что водород и по природе вещей был единственно возможным объектом. Измерения были проведены по методу Гюи на микровесах, специально для этой цели изготовленных в ЛФТИ. Работа успешно была закончена в начале 1936 г. Так излишне подробно пишу об этом вот почему.
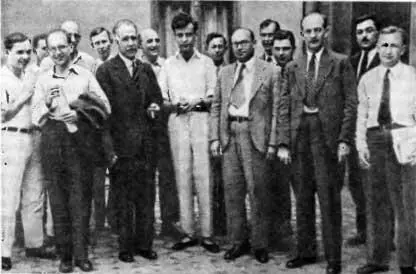
Возможно, благодаря очень дружеским отношениям Льва Давидовича с Львом Васильевичем, который с большим интересом относился к моей работе, а также атмосфере научного интереса на институтских семинарах и вообще дружной атмосфере в УФТИ с Львом Давидовичем у меня установились и сохранялись всегда добрые отношения. О ведущейся работе по магнитным измерениям на твердом водороде с указанной целью Л. Д. Ландау знал. Более того, после ее окончания она подробно обсуждалась с ним и он факт обнаружения и измерения ядерного парамагнетизма в эксперименте и очень малое время намагничивания твердого водорода (прибор следил за ходом магнитного поля без заметного запаздывания), как и мы, экспериментаторы, считал установленным. С экспериментаторов какой спрос? А для некоторых теоретиков это было далеко не так ясно. Очень многое Л. Д. решал, казалось бы, сразу —в уме (так это, наверное, часто и бывало). В частности, по-видимому, малое время ядерного намагничивания ортоводорода у него не вызывало сомнений. В это же время по этому же поводу Гайтлер и Теллер (1935 г.) сделали ошибочный вывод о практической невозможности измерения ядерного намагничивания неметаллов, в частности водорода, так как по их вычислениям время намагничивания оказалось больше 10 12с (больше 10 5лет). Под влиянием харьковских измерений Гайтлер и Фрелих (1936 г.) заново решили эту задачу — специально для водорода — с учетом того обстоятельства, что у ортоводорода до самых низких температур сохраняется ротационный момент. Время намагничивания при низких температурах оказалось —0,1 с. Кстати, из перечисленных возможных веществ по этому признаку пригоден только водород. Долгое время мне казалось, что работа по измерению ядерного парамагнетизма у нас удачно «проскочила». Действительно, журнал со статьей Гайтлера и Теллера (Proc. Roy. Soc., 1935) о невозможности измерений ядерного намагничивания на неметаллах задержался доставкой в Харьков, а за это время работа была сделана. Думалось — а если бы до начала работы эта статья пришла? Может быть, и постановку эксперимента отменили бы — такой солидный журнал! Теперь, по прошествии долгого времени, мне кажется, что этого не было бы, так как теоретическая ошибка в статье была бы замечена тем же Л. Д. Ландау. Ведь на его глазах делалась «невозможная» работа. Мне теперь кажется, что она не вызывала сомнения в постановке и в обсуждении полученных результатов у Л. Д., потому что он обладал невероятной способностью оценивать физику явлений. В этом проявлялось то, что в харьковский период формулировалось как некоторое правило: «Если Ландау сказал да, так это-таки да! Однако…» Об «однако» будет дальше. Это свойство проявлялось и в крупных и в сравнительно незначительных задачах. К примеру, в одной из работ Л. В. Шубникова и В. И. Хоткевича (1936 г.), очень важной в процессе создания представлений о природе сверхпроводимости (в работе измерялись критические значения поля и тока для чистого сверхпроводника — олова), нужно было точное знание деталей: значение индуктивности кольца в сверхпроводящем состоянии, количественное определение магнитного поля, наведенного током в центре сверхпроводящего кольца, на основании измерений магнитного поля катушкой с конечными размерами по длине и диаметру (сейчас это просто решаемая на ЭВМ задача). В статье Л. В. Шубникова и В. И. Хоткевича значения этих величин в соответствующих формулах стоят. В ответ на мой вопрос Льву Васильевичу: «Откуда вы взяли эту величину?» — последовал ответ: «Ландау написал». Это отнюдь не свидетельствует о беспомощности Льва Васильевича. Он, естественно мог их подсчитать или оценить сам, но Ландау просто писал ответ, после буквально нескольких строчек вычислений. Несколько строк (именно по этому поводу), написанных рукой Л. Д., и сейчас хранится у нас в лаборатории в одной из рабочих тетрадей Льва Васильевича рядом с рисунком кольца. Решению задачи об индуктивности кольца в нормальном состоянии при высоких частотах (когда толщина слоя, по теперешним представлениям, меньше глубины проникновения) была посвящена статья 1931 г. одного из наших крупных теоретиков, ответ, естественно, совпадал с ответом для сверхпроводящего кольца. Л. Д. не знал этой статьи и решения, и, когда я ему сказал об этом, он ответил: «Фи! Статья по такому пустяку». Однако иронические, а то и отрицательные высказывания Л. Д., пожалуй, были для него не редкостью. Но в положительных определениях его «да» действительно, как сказано, было да.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: