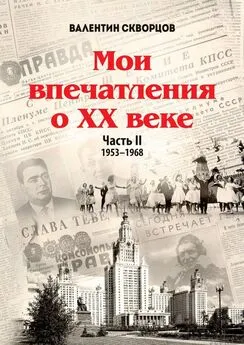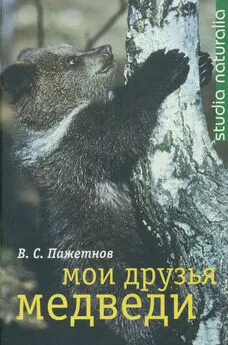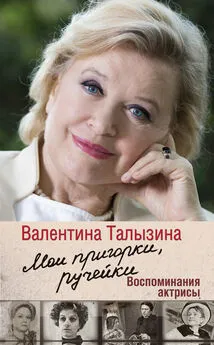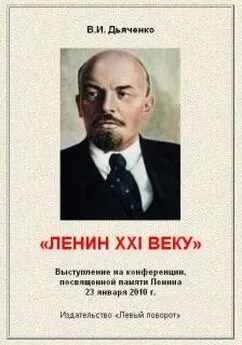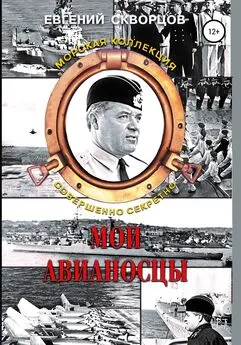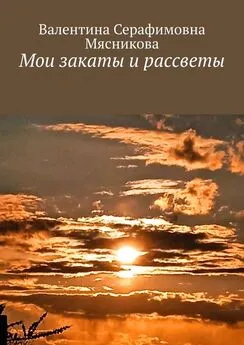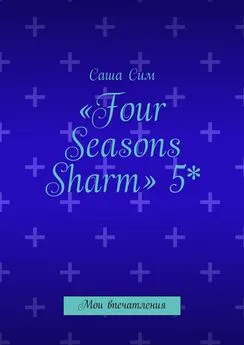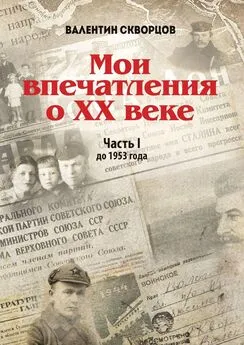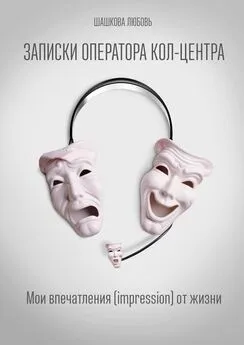Валентин Скворцов - Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968
- Название:Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005124449
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Скворцов - Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968 краткое содержание
Мои впечатления о XX веке. Часть II. 1953—1968 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заметку о Шлихтере я через несколько дней написал и дал ее подписать всем студентам нашего потока. Мне хотелось поддержать Шлихтера, противопоставив его тем университетским партийным руководителям, которые, на мой взгляд, не умеют работать с молодежью и портят дело, тем более что у нас на каком-то партсобрании Шлихтера даже критиковали за излишний либерализм. Заметка заканчивалась словами: «В Артемии Александровиче мы видим образец коммуниста, пламенного и умного пропагандиста идей коммунизма, человека высокой идейности и принципиальности. Мы просим кафедры общественных наук университета обратить серьезное внимание на необходимость широкого распространения опыта Шлихтера. Главный секрет его успеха – в широте знаний, страстной убежденности, в умении обращаться не только к мыслям, но и к чувствам своих слушателей». Около ста человек подписали мою заметку. Она была опубликована в «Московском университете» 23 ноября.
На следующий день после того партийного собрания мы с одним пятикурсником-коммунистом сходили в партбюро, попросили дать нам прочитать статьи из бюллетеня. В бюро их не было, но в конце концов заместитель секретаря бюро Малышев откуда-то принес отпечатанные листочки со статьями. В статье Стоцкого речь шла о только недавно переизданной книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции. Там, действительно, во всех цитатах из книги Ленин всегда упоминается вместе с Троцким. Для советского читателя в то время упоминание Троцкого в положительном контексте, тем более через запятую после фамилии Ленина, казалось невиданным кощунством. Мне такой набор цитат показался просто неуместным эпатажем, хотя на самом деле в книге Рида, видимо, трудно найти место, где бы Ленин упоминался отдельно от Троцкого. Статья Белецкого была посвящена литературному критику Марку Щеглову, с которым Белецкий был знаком. Эта статья мне не понравилась. Я почувствовал в ней полное неприятие советской литературы и всей советской системы. Я к этому не был готов.
Сейчас, когда я это пишу, я нашел в интернете очень интересные мемуарные записки Белецкого, где он пишет и о тех событиях вокруг бюллетеня. Из этих записок видно, что я тогда был прав, увидев в нем непримиримого антисоветчика. У него уже тогда была четкая оценка и сталинизма, и венгерских событий, а мне еще было далеко до этого. Он интересно описывает свое состояние после XX съезда, когда он вдруг, примерно на полгода, вплоть до венгерских событий, стал восторженным сторонником Хрущева. Также в интернете я нашел, что сейчас Белецкий является довольно известным политологом в Киеве и одним из руководителей Международного радио Украины. Интересно, что в этих своих мемуарах, несмотря на свое уже в юности сформировавшееся неприятие советской идеологии, Белецкий дает положительную оценку Шлихтеру. Говоря о преподавании идеологических дисциплин в университете, он пишет: «Цель этих предметов очевидна – промывание мозгов. Советский человек, находящийся на определенном уровне грамотности, всю жизнь – от школьной парты до гробовой доски – должен быть погружен в атмосферу советской идеологии. В школе – уроки, в университете – лекции, на работе – политинформация… Как я относился к этим предметам, нет надобности писать… Все лекторы и преподаватели по этим предметам – личности абсолютно бесцветные, какие-то выцветшие… А вот политэкономия, читавшаяся на 3-м курсе, составляла исключение, и отношение к ней было совсем другим. Я это связываю с личностью лектора – Артемия Александровича Шлихтера. Было в нем что-то, вызывающее уважение практически у всех, и у меня в том числе. Более того, можно сказать, что его любили. Он воспринимался как живой человек, думающий, говорящий то, во что верит. Кажется, он был из рода старых, еще дореволюционных большевиков – во всяком случае, эта фамилия где-то в истории мелькала. Высокий представительный мужчина с аккуратной щеточкой усов. Выработанная манера держаться и говорить – спокойно и уверенно. (Мне передавали высказывание одной из наших девушек: „ Интересно, какой он как мужчина“. Замечу, по нравам того места и времени, высказывание очень нестандартное.) К тому же политэкономия – не такой мертвый предмет, как другие идеологические. Там можно было найти живые и интересные темы, и Шлихтер их находил. Его действительно иногда было интересно послушать. Доверие к нему было настолько велико, что студенты нередко обращались с вопросами, не относящимися к его предмету, а носящими общеидеологический характер, и получали достаточно убедительный ответ. Мне остается констатировать: вот ведь и так бывало».
Еще один материал бюллетеня был посвящен обсуждению романа Дудинцева «Не хлебом единым» в Доме литераторов и у нас на филологическом факультете. В частности, там было опубликовано выступление Константина Паустовского, где он, говоря об одном из героев романа, директоре Дроздове, противостоящем главному герою изобретателю Лопаткину, вспоминает свое недавнее зарубежное путешествие на теплоходе, где он встретился с такими Дроздовыми, занимавшими каюты люкс и 1-й класс. Он говорит, что так называемая советская номенклатура превратилась в слой общества, оторванный от народа, отличающийся невежеством, спесью. Выезжая за границу, они позорят нашу страну. Эти выступления писателей произвели на меня впечатление. Дома я записал в дневнике: « Сильно там писатели говорят, Я как-то заколебался. Главный вопрос: являются ли Дроздовы неизбежным порождением нашей системы. Надо подумать. „Не хлебом единым“ я сейчас дочитываю. Лопаткин мне чем-то не нравится. Надо подумать ». Вспоминаю разговор с членом нашего партбюро Малышевым, который, поругивая «Не хлебом единым», утверждал, что встречал таких полусумасшедших самоучек-изобретателей Лопаткиных, которые своими невежественными проектами не давали покоя квалифицированным инженерам. Такую же точку зрения на образ Лопатина повторил чуть позже наш профессор Гельфонд, о чем я еще напишу. В этом взгляде на Лопатина, может быть, и есть доля истины, но официальные-то критики обрушивались на Дудинцева не из-за Лопаткина, а из-за Дроздова. И я в своей записи правильно уловил причину, по которой этот роман всем показался таким острым.
Записи в последующие дни:
«19 ноября. Сегодня, как и предыдущие дни, занимался в основном политикой. Перед началом лекций к нам в аудиторию зашел наш инспектор и зачитал приказ об отчислении из университета Стоцкого, Белецкого и Вайнштейна, а также Янкова, но его за другие дела – он пытался устроить бойкот студенческой столовой. Кажется, это еще приказ деканата, а его должен утвердить ректор. Сережа Смоляк сразу кинулся собирать бюро потока. Договорились во время лекции по физике уйти заседать. Во время заседания я им рассказал о статьях бюллетеня, сказал, что надо четко понять, в чем ошибки редакции, и на собрании при разборе дела Стоцкого надо критиковать его по существу, чтобы он сам понял, за что его критикуют. Пришел еще Володя Левенштейн, он сейчас член вузкома. Он тоже сказал полезные вещи. Члены бюро воспринимали все довольно правильно, соглашались, что осудить нужно, но считали, что Стоцкого нужно бы оставить в университете. Я предлагал сначала поговорить в партбюро. Хотели уже назначить собрание потока, но потом узнали, что на завтра назначен комсомольский актив факультета. Решили проводить собрание после актива. Сегодня в газетах много интересного. Опубликована совместная декларация с польским ЦК, не все мне там понравилось. А в речи Хрущева смотрю – ругает кого-то за рекламу своей особой модели социализма. Понял, что про Тито, и действительно, на третьей странице увидел комментарии к выступлению Тито, где его критикуют за оппортунизм. Давно бы так! Поторопились с объятьями ».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: