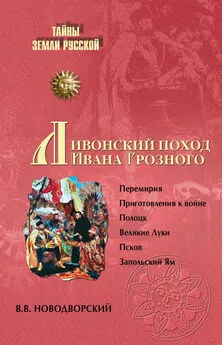Витольд Хорос - Чтобы потомки знали
- Название:Чтобы потомки знали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449888167
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Витольд Хорос - Чтобы потомки знали краткое содержание
Чтобы потомки знали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Постепенно наш лагерь обустроился, выросли шалаши, около каждого небольшой костерок, пришла пора добраться до воды. Наша площадка возвышалась над Иртышом метров на 70, если не больше и заканчивалась крутым обрывом. Даже просто смотреть вниз было поначалу страшновато, а уж спускаться… И все-таки страх был преодолен, был найден приемлемый маршрут спуска, а вскоре мы освоились так, что спускались уже не ползком, а прыжками с уступа на уступ. Добравшись до берега, можно было осваивать рыбный промысел. Самыми заядлыми рыбаками были Генка и я, и, совершив нелегальный выход в город, мы принесли в лагерь снасти и могли иногда пополнить свой скудный казенный харч рыбкой, собственноручно добытой.
В своем рассказе о лесозаготовках я сознательно на передний план вывел быт (он для нас был важнее всего), а труд вроде бы позабыл. Работали! Валили деревья (тупые пилы точили сами), распиливали стволы на двухметровые кряжи и укладывали в штабеля. Обрубленные сучья тоже шли в дело – служили дровами для костров, а те, что помельче – подстилкой в шалашах, чтобы спать было помягче. У каждой пары лесорубов были свои штабеля и мы их раз в неделю сдавали мастеру, который вел учет выполнения плана. Не было среди нас «стахановцев», так как знали: пара, первой выполнившая план, все равно домой не уедет, будет помогать выполнить план отстающим. Вот и шли пары по выработке «ноздря в ноздрю».
В город возвратились ближе к концу июля и еще успели немного покупаться и порыбачить. На свои заветные места уходили по старой привычке с Генкой, но разлад между нами уже наметился. И вызван он был исключительно его пристрастием к женскому полу. Вскоре я узнал, что он уже успел познать радость тайного «супружества» с одной из учениц нашего же ремесленного училища. Очень красивой девицей, между прочим!
В самом конце июля Геннадий собрал нас, самых ближайших друзей – меня, Мишу Давыдова и Сашу Зыкова («Сану») и предложил на месяц податься в деревню Волгина, где председателем колхоза был их близкий знакомый. В годы войны председатель-мужик был большой редкостью, всюду колхозы возглавляли женщины, да кое-где мужики-инвалиды. Сомнений и возражений с нашей стороны не последовало и мы вчетвером пешочком отправились работать в колхоз (еще Шолохов в «Поднятой целине» вложил в уста деда Щукаря фразу: «Колхоз – дело добровольное»! )
Протопав двенадцать километров, мы предстали перед очами председателя. Он нам обрадовался, как родным, а, узнав Геннадия, проникся к нам доверием. Рабочих рук в колхозе не хватало, погода стояла отменная, урожай был приличный, хотя и не рекордный, так что мы пришли весьма кстати. Он быстро распределил нас на постой (всех по отдельности), послал «гонцов» за предполагаемыми хозяйками («гонцами» служили пацаны-малолетки, постоянно крутившиеся близ правления), объявил им кто у кого будет на постое, где и сколько они получат продуктов для нашего прокорма и приказал утром явиться на развод. Норму он нам установил щедрую: 800 граммов хлеба, литр молока и два килограмма картошки. Плата за работу нам будет натурой: два мешка картошки за месяц работы (по 12 ведер каждому – это нам было понятнее, чем в килограммах).
С 1 августа началась наша колхозная жизнь, работать довелось практически на всех мужских работах: на заготовке сена, уборке картофеля, возили с поля снопы хлеба… Вечерами немногочисленная молодежь собиралась на «вечёрки», пели частушки под балалайку. Нас поразило то, что большая часть частушек была матерная и пели их все, в том числе и девчонки. Запомнились такие:
Ой, маменька, жени меня,
Страсть жениться я хочу,
Если ты меня не женишь,
Х… печку сворочу,
Или еще:
Алемасовский колхоз,
До чего добился:
Председателя е…
Кто распорядился?
Колхоз «Алемасовский» можно было заменить колхозом Ворогущинским или Винокуровским по названию близлежащих деревень – все было бы справедливо: везде председательствовали женщины, а их мужья воевали или уже отвоевались. Похоронки в 1941 – 42 годах шли пачками. Из мужиков, призванных в два первых года войны, мало кто выжил. Так что в колхозах власть принадлежала женщинам-председателям и распоряжаться когда и с кем ей спать могла только она сама.
Поначалу нас шокировало употребление всеми жителями села – без различия пола и возраста – слов, в нашем понимании, матерных, но вскоре поняли, что это нормальное, бытовое, естественное название предметов и действий человека. Вот только если эти же самые слова употребляют в ходе ссоры или брани – тогда это уже мат! А если просто в разговоре, то это исконно русское обозначение. И почему эти же вещи в иностранной транскрипции произносить не стыдно, а это же самое, но по русски – стыдно? Вот такая в деревне философия.
Мы быстро освоились, питались вместе с хозяевами, спали на тюфяках, набитых душистым сеном, мылись по субботам в бане вместе с ними (и не стыдились – а чего стыдиться, это же баня, а не что-то другое!). По работе к нам претензий не было, наш труд был очень нужен колхозу. Месяц пролетел быстро, пора было прощаться. Вот тут-то председатель и высказал крамольную мысль: «А может, еще на месячишко останетесь? Ведь молотьба же на носу!» И мы остались. Да не посадят же нас, если мы в училище явимся только в октябре!
Второй месяц ознаменовался работами на гумне. Начался обмолот снопов хлеба. Мы так освоились с сельхозработами, что мне доверили целую смену работать подавальщиком на молотилке. Нужно было у поданного подручной женщиной снопа быстро разрезать вязку, распустить сноп и тонким слоем подать в жадную пасть молотилки. Нельзя было допустить на зубья быстро вращающегося барабана слишком толстую прядь. У меня получилось как надо. А приводом молотилки служила просто лошадка.
За два месяца мы заработали по 25 ведер картошки, что было великим подспорьем на зиму. Да и сами неплохо отъелись. Картошка осталась на хранение у хозяев в подполье. Я свою вывозил зимой на саночках за четыре рейса.
Зима 1943 – 44 годов прошла без особых событий, если не считать, что я уже стал «официальным» курильщиком (табак для меня вырастила мать в нашем огороде). Я все реже появлялся в стенах училища, так как увлекся изготовлением клеток для птиц, которых тоже сам ловил. Делал с выдумкой и не только для себя, но и продавал. Не посещая училища я, естественно, не получал и довольствия: меня лишали одежды, питания и прочих «благ». Чаще всего утром я уходил в училище, завтракал вместе со всеми, а потом уходил домой. Дома питался тем, что украл: я ловко проникал через крышу дома и слуховое окно в нашу кладовку, где хранились продукты (мать хвасталась: «Вот вернется домой Егорчик, а я все сохранила»), брал немного муки (вскоре заметил, что в ней появились черви и мне пришлось ее просеивать через сито), отрезал кусок соленой рыбы, а затем на печке-железке варил себе «болтушку», кипятил чай и пил его с шоколадной конфеткой. Брал всегда немного – только на один раз. Вот только банки с консервами не трогал, не хотел рисковать: они наверняка были сосчитаны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
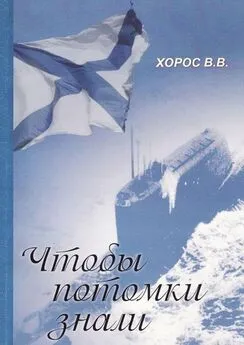

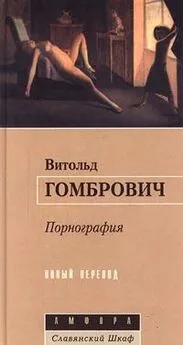


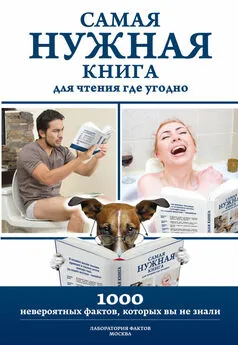
![Ирина Суздалева - Потомки Бога против потомков Дьявола [СИ litres]](/books/1070472/irina-suzdaleva-potomki-boga-protiv-potomkov-dyavo.webp)
![Витольд Недозор - Дочь Великой Степи [litres]](/books/1074950/vitold-nedozor-doch-velikoj-stepi-litres.webp)