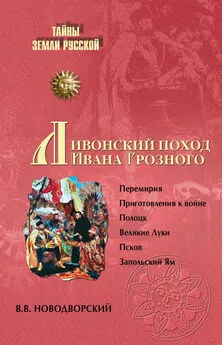Витольд Хорос - Чтобы потомки знали
- Название:Чтобы потомки знали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449888167
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Витольд Хорос - Чтобы потомки знали краткое содержание
Чтобы потомки знали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни одного письма с фронта мы так и не получили, он по сообщению военкомата числился «без вести пропавшим». Я предполагаю, что их батальон на ближних подступах к линии фронта попал под бомбежку, в которой мало кто уцелел. В регулярную часть он так и не прибыл.
Мои воспоминания о жизни с отчимом и его близким несколько затянулись и пора возвращаться непосредственно к своим делам.
1 сентября 1940 года я пришел в 5-й класс семилетней школы №11. В одном классе со мной оказались мой брат Евгений (дважды второгодник!), соученик по 2—3 классам Сергей Войцеховский, Волосатов и еще кое-кто из старых знакомых по школе №7. Были у нас неплохие преподаватели, в том числе даже мужского пола: математику преподавал П. Криворотов – директор школы; русский язык и литературу – Нижегородцев, историю – Е. Клочкова. Даже пение преподавал мужик – фамилию не вспомню. Он неплохо играл на гитаре и пел, разучивал с нами не только «Варшавянку», «Интернационал» и другие патриотические песни, но еще рассказывал об их авторах и историю создания песни.
Любимым моим предметом стала история, а с учительницей возникла взаимная симпатия (чисто деловая!) и она обеспечила меня учебником «История древнего мира» (дефицит!) в числе самых первых. Очень сильным преподавателем была Прозорова – большая поклонница Тимирязева и называла его только по имени-отчеству (Климент Аркадьевич). В нашем же классе учился ее сын-скрипач. Больше всего я не любил уроки немецкого языка, хотя преподавала его Воробьева Эмма (Михайловна, кажется), яркая, очень красивая блондинка – волосы были совершенно белые, причем не только у нее, но и у ее дочери. В школе был небольшой буфет, в котором почти всегда придавали вкусные пирожки с картошкой.
В классе уже наблюдались зачатки любовных «страданий» – записочки, стрельба глазками и прочие сигналы симпатий. И меня эта «эпидемия» не миновала: я попал «под обстрел» со стороны Лиды Головчанской – малопривлекательной, но очень настырной хохлушки. Избавиться от ее преследований было нелегко. Многие из одноклассников уже курили, матерно ругались, играли на деньги… Наиболее «отпетыми» были Волосатов и Дружинин. Мой брат Жека ничем не выделялся, кроме телосложения, казался спокойным и даже флегматичным. Видели бы его на футбольном поле!
Сразу после окончания учебного года меня отправили в пионерлагерь в Жуковку. Там у меня состоялось два знакомства с людьми, сыгравшими заметную роль в моей жизни. Я попал в один отряд с Геннадием Кугаевским. Именно он по своему выбору подобрал ребят в свою палату. Такое «самовластие» ему позволяли потому, что начальником лагеря была его сестра Ирина. Она была, в свою очередь, женой фотохудожника Елисеева, работавшего в «Тобольской правде». Все это я узнал позднее, когда мы надолго подружились с Геной. В нашем отряде он был безусловным лидером.
Другим лидером стала Людмила. Это она расписала своих подружек по «женихам». Себе она, естественно, выбрала Гену, а своей лучшей подружке Иде Арефьевой назначила меня. «Жениховство» было, разумеется, формальным, да оно и не могла быть иным, так как всем нам было не больше 13 – 14 лет. Однако, жизнь повернулась так, что Ида позднее стала моей подругой на годы. Но об этом будет сказано ниже.
3. Война
22 июня я с Евгением и его друзьями был на стадионе, а когда мы вернулись домой, узнали, что началась война. Теперь над нами можно посмеяться, но тогда мы были рады: еще бы! – в наши головы крепко вбили, что «от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней». Мы верили, что забугорный рабочий класс только ждет «искры», чтобы свергнуть гнет капиталистов-угнетателей, и пролетариат всех стран соединится, чтобы свершить Мировую революцию. Самое «смешное» случилось на следующее утро, когда радио сообщило, что атаки фашистов повсеместно отбиты, а наши взяли в плен 5 000 захватчиков.
Эйфория прошла быстро: в сводках информбюро замелькали названия оставленных городов, у военкомата и на пристани стоял вой женщин, провожавших на войну мобилизованных мужей, отцов и сыновей, в магазинах быстро исчезали макароны, крупа, мыло, спички, соль, опустели полки, еще недавно забитые многолетними запасами банок с крабами «chatka». Уже в августе с приходом каждого парохода прибывали эвакуированные из Одессы, Риги, Минска… Начали прибывать не только беженцы, но и организации. Для их размещения закрывали школы, какие-то конторы, общественные организации. К нам в дом «на постой» направили семью из Ленинграда: женщину, ее мать, дочь и сына. Мальчику было не больше трех лет и он целыми днями ходил за бабушкой и просил кусочек хлеба, «ну хоть корочку, ну только попробовать…» Жалко было пацана, но и помочь я не знал как, поскольку карточной нормы хлеба уже и самим не хватало. Девочка примерно моего возраста вела себя очень достойно, удивляла меня своей выдержкой и скромным поведением. Жили они у нас недолго, месяца два – три, а потом женщину направили куда-то на работу (думаю, в район; вероятно, она была ценным работником).
Следующими постояльцами оказалась семья Коржавиных – он был начальником «Мельстроя», его жена Мария и дочь Мира лет пяти сидели дома. Рост численности населения города за счет эвакуированных был значительным, поэтому вопрос обеспечения людей хлебом стал первостепенным. Без новой мельницы эту проблему решить было невозможно. Так наш квартирант стал одной из важнейших фигур в городе, поэтому для него к нам в дом даже провели временную телефонную связь и по вечерам он часто звонил в Омск – наш областной центр.
Он был большим любителем пива (как он его доставал – не знаю) и раза два – три угощал меня пивом и ржаными сухариками, размоченными пивом в блюдце и посыпанными солью.
У всех работающих день стал ненормированным. Мать работала бухгалтером на пристани Госпароходства и после обычного трудового дня конторских выгоняли на выгрузку грузов, прибывавших для обеспечения не только нужд города, но и для эвакуированных предприятий. Плохо было не только со снабжением, но и с работой старых городских предприятий (бани, электростанции, водопровода), поскольку число потребителей резко возросло и мощностей предприятий не хватало.
Как я уже вскользь упоминал, и мать, и отчим были схожи своей запасливостью, поэтому у нас в подполье, в кладовке были огромные запасы муки, консервов, рыбы соленой, конфет и прочих продуктов, огромная корзина папирос, табака, махорки, но все было в неприкосновенности, так как нельзя было показать квартирантам наши богатства. Я знал это, но вынужденно терпел до поры – до времени.
Наша школа была расформирована и в 6-й класс я уже пошел в «главную» школу города – среднюю школу №1. Школа оказалась переполненной, только шестых классов было, по моему, пять. Не помню точно, кто из моих бывших соучеников попал в наш класс, но в нем оказалось много эвакуированных. Прежде всего, были девочки из московского детдома: Нина Десятчикова, Тамара Родина, Тамара Смирнова, Катя Духонина и Капелькина. Москвичами также были Истомин и Юдин (прирожденный артист – великолепно читал вслух литературные отрывки из учебника, особенно диалоги, меняя голос). Рядом с нашим был еще один шестой класс и там появилась яркая ленинградка Михина Ирина. С ней у меня завязалась дружба (не сразу!), которая затянулась на целые десятилетия (дружим уже седьмой десяток лет).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
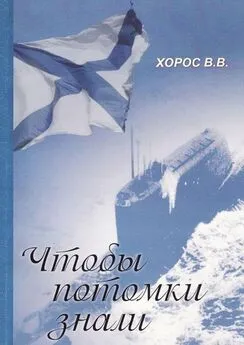

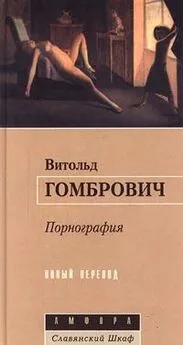


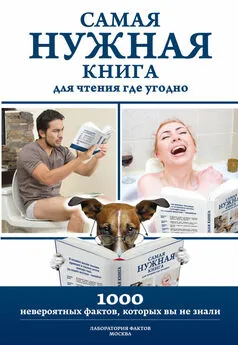
![Ирина Суздалева - Потомки Бога против потомков Дьявола [СИ litres]](/books/1070472/irina-suzdaleva-potomki-boga-protiv-potomkov-dyavo.webp)
![Витольд Недозор - Дочь Великой Степи [litres]](/books/1074950/vitold-nedozor-doch-velikoj-stepi-litres.webp)