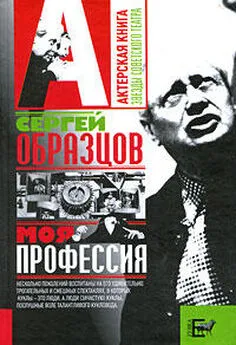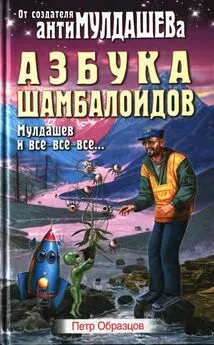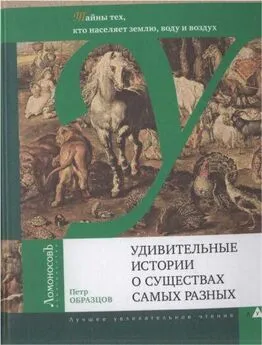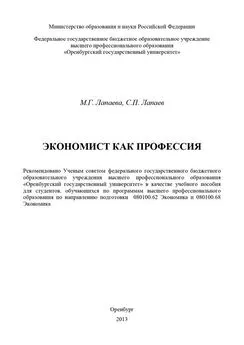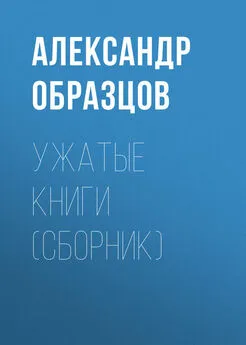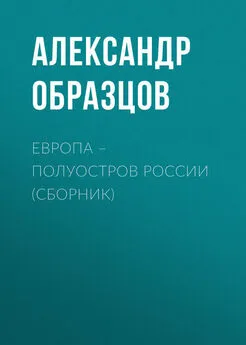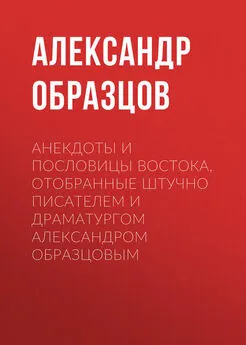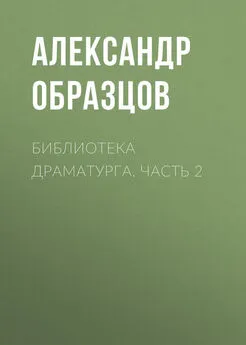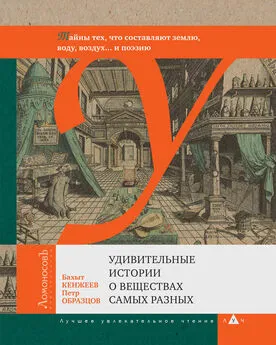Сергей Образцов - Моя профессия
- Название:Моя профессия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Зебра, АСТ
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-94663-765-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Образцов - Моя профессия краткое содержание
Книга народного артиста СССР С.В. Образцова посвящена творческим проблемам театра кукол и эстрадного искусства. Рассказывая о своих выступлениях с куклами на эстраде, о режиссерской работе в руководимом им Государственном центральном театре кукол, о работе в документальном кино, Образцов анализирует и достижения и неудачи, раскрывает творческую лабораторию художника. Наряду с проблемными главами в книге есть «Дневник памяти», где автор вспоминает наиболее значительные события своей жизни и жизни театра.
Моя профессия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не меньшими общественными событиями были «Любовь Яровая» в Малом театре, афиногеновский «Чудак» во МХАТе Втором. А «Человек с ружьем» в Театре Вахтангова с Щукиным в роли Ленина? А «Павшие и живые» в Театре на Таганке? Все, кто пережил войну, слушали слова погибших поэтов и еле сдерживали слезы. И перелистывали страницы своей памяти. И понимали, что только потому они живы, что другие мертвы. Живы слова мертвых, и слова эти поднимают самые глубины нашей совести, совести живых.
В Большом театре я видел Уланову – Джульетту. Музыка Прокофьева, декорации Вильямса. Все прекрасно. Великолепный балет на сюжет Шекспира. Великолепное театральное событие.
В Торонто на театральном фестивале шестьдесят второго года я смотрел американскую «Вестсайдскую историю». Тема шекспировских «Ромео и Джульетты». Сюжет в основном тот же, но все переведено на сегодняшние американские реалии. Это было тоже великолепно, но волновало зрителей уже по-другому, вероятно, так же, как в шестнадцатом веке «Ромео и Джульетта» волновала зрителей театра «Глобус». Все касалось сегодняшних людей, современников героев.
На приеме у директора фестиваля я встретился с героиней спектакля и высказал ей все это. Она не просто благодарила, она заплакала. Заплакала потому, что жила на сцене сегодняшними чувствами.
Я завидую Джульетте Мазине, раскрывающей подлинную правду сегодняшних простых женщин. Я завидую постановщику картины «У стен Малапаги» Рене Клеману, я завидую Брехту, я завидую Маяковскому. Никогда не забуду, как он через головы нас, сидевших в маленьком зале актерского клуба, говорил с потомками. Не хватит никаких страниц, чтобы перечислить всех, кому я завидую в искусстве. Пушкину, Гоголю, Толстому, Твардовскому, воздвигнувшим памятники современникам. Жившим сейчас, сегодня, вместе с ними. Раскрывавшим современникам жизнь, раздвигавшим ее.
Но могу ли я похвастаться тем, что создаю или создал в искусстве что-то похожее на явление общественной, а не театральной значимости?
Сам я ответить на такой вопрос не могу. Знаю только, что очень многим моим спектаклям нельзя приписать значение общественное. Но сказать, что таких совсем не было, тоже нельзя.
Был такой день в моей жизни, когда после премьеры «Необыкновенного концерта» я получил телеграмму от одного из лучших советских режиссеров – Николая Павловича Акимова: «Поздравляю и подло завидую». Мы не были личными друзьями с Акимовым, и, значит, телеграмма была искренней.
Я был рад. Рад потому, что телеграмма эта подтверждала мою мечту. Спектакль получился сегодняшним, нужным, решающим определенную, пусть не очень широкую, но важную тему. Тему штампов, мешающих искусству, разъедающих его, как разъедает плодожорка молодые яблоки.
Больше шести тысяч раз сыграли мы этот спектакль. И каждый раз он был буквально «обречен» на успех, вызывая шквальные аплодисменты.
Линию «Необыкновенного концерта» в какой-то степени продолжили спектакли «Говорит и показывает ГЦТК»
и «Дон Жуан», о которых я еще буду говорить. «Говорит и показывает» высмеивает штампы телевидения, а «Дон Жуан» – моду на театральные мюзиклы, и тот и другой спектакли идут с успехом, а «Дон Жуан» на гастролях в Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии, Мексике совершил буквально триумфальное шествие по многим городам этих стран, вероятно, потому, что предмет сатиры – банальный джазовый мюзикл – на Западе особенно распространен.
Конечно, оба этих спектакля, так же как и «Необыкновенный концерт», имеют определенное социальное значение, но мечтаю я о большем.
Письмо самому себе
Были у нас и другие спектакли, имевшие хороший успех и получившие похвальные рецензии, но довольно быстро сошедшие с репертуара.
Чем же я должен объяснить их недолговечность? Лимитом потенциального зрителя. Много было хорошего в таких спектаклях, как «Ночь перед рождеством» по Гоголю, «Король-Олень» по Карло Гоцци, но за пределы «театральных радостей» они не выходили, не шевелили, не будоражили сегодняшних сердец. «Театралам», поклонникам нашего театра, любителям кукол эти спектакли нравились. Я получал много комплиментов, но потенциальный лимит зрителей измерялся только тысячами. А это мало для спектакля. Мало для театральной деятельности, если подходить к ней со строгой меркой нужности людям.
Существует хороший анекдот. Подходит врач психиатрической больницы к больному и спрашивает: «Что это вы делаете?» – «Пишу письмо». – «Кому?» – «Себе». – «Что же там написано?» – «Не знаю, еще не получал». Ставить спектакль самому себе и самому же его оценивать бессмысленно. Ставить можно только кому-то и для чего-то.
У Омара Хайяма есть такое стихотворение:
Он еле виден, чаще скрыт,
За нашей жизнью пристально следит.
Бог нашей драмой коротает вечность,
Сам сочиняет, ставит и глядит.
Даже если бог смотрит свой спектакль, пригласив на него ангелов, даже и в этом случае его занятие смысла не имеет.
Пусть спектакль признан весьма эрудированными друзьями режиссера – все равно это еще не дает ему права, устроив банкет, пребывать в гордом ощущении счастья. Надо прийти на двадцатое представление, когда в зрительном зале эрудитов уже не будет, когда придут Мариванны с Иваныванычами. Вот тогда решится вопрос, сделал ли режиссер нужное дело или он написал письмо самому себе.
Десятки тысяч спектаклей
И в этом смысле Центральный театр кукол может считать себя счастливым. Писем самим себе мы не писали. За пятьдесят лет своей жизни театр сыграл около сорока тысяч спектаклей. Мы объехали сотни городов нашей страны. В нашем здании на Садовой Самотечной мы ежедневно играем два спектакля. И не бывает так, чтобы в зале было хоть одно свободное место. За несколько месяцев вперед, отмечаясь каждую субботу, записываются зрители на покупку билетов. Двое даже поженились. Встречались, встречались каждую субботу – и поженились, а кассирше преподнесли букет цветов. Ее звали Маша, а его не знаю как. Это произошло несколько лет тому назад. Теперь они уже приобрели отчества, почему я и назвал главу «Для Мариванны и Иванываныча».
Но, по правде сказать, были случаи, когда их звали Мери и Джон, Мари и Жан, ведь театр наш объехал больше тридцати стран мира. Играли главным образом тот самый «Необыкновенный концерт», с которым меня так весело поздравил Николай Павлович Акимов.
Играли «Волшебную лампу Аладина», играли «Божественную комедию» Исидора Штока. Это лирическая сатира на библейский сюжет – сотворение мира, создание человека, грехопадение и изгнание из рая.
В следующей главе я буду подробно говорить об этом нашем спектакле, но сейчас, заканчивая эту главу, я хочу рассказать об очень важной для меня реакции женщин на одно слово, а фактически на идею «Божественной комедии».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: