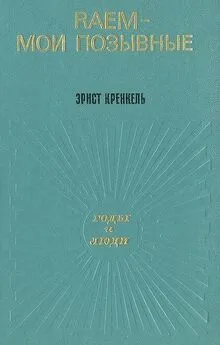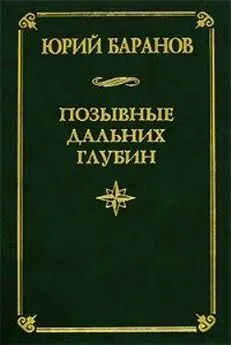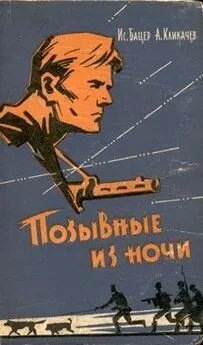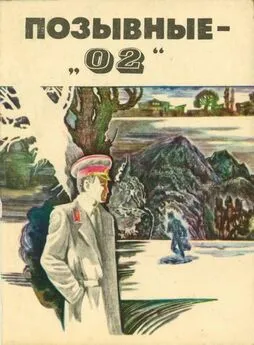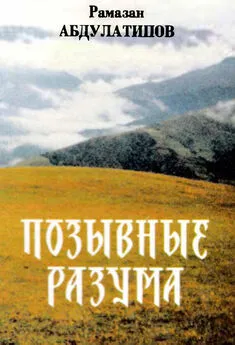Эрнст Кренкель - RAEM — мои позывные
- Название:RAEM — мои позывные
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Кренкель - RAEM — мои позывные краткое содержание
Известный полярник, Герой Советского Союза Э.Т. Кренкель рассказывает в своих воспоминаниях о героических этапах освоения Арктики. Автор книги участвовал в походах «Сибирякова» и «Челюскина» с О.Ю. Шмидтом и В.И. Ворониным, летал на дирижабле «Цеппелин» с Умберто Нобиле, дрейфовал на льдинах с «лагерем Шмидта» и с первой советской станцией «Северный полюс», возглавляемой И.Д. Папаниным, зимовал на маленьких полярных островах. Интересны его встречи с лётчиками Чкаловым, Леваневским, Водопьяновым, Молоковым, с учёными Бонч-Бруевичем, Визе, Самойловичем, с отважными полярниками и моряками.
Книга насыщена колоритными подробностями и вся пронизана добрым юмором.
RAEM — мои позывные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Труден, оказался поход и для трех подводных лодок, выделенных командованием Северного флота для участия в спасательных работах, — Д-З, Щ-402, 1Д-404, только что вернувшиеся с учений, были направлены на помощь «Таймыру», потерявшему радиосвязь со льдиной, и для обеспечения полета дирижабля «СССР-В-6». Особенно отличилась лодка Д-З. Во время шторма, когда ей приходилось продвигаться в надводном положении, волна захлестывала рубку. Вахтенные командиры, сигнальщики привязывались ремнями к стойкам. Одежда их покрылась ледяной коркой, цепенели руки, но моряки привели лодку точно в назначенное им место.
Самая страшная судьба выпала на долю дирижаблистов. История этого трагического полета еще перед войной была описана Константином Симоновым в поэме «Мурманские дневники». Но, как ни странно, документальная литература обошла полет дирижабля «СССР-В-6» стороной, и лишь в 1966 году газета «Советская Россия» опубликовала 13–14 апреля очерк В. Анциферова «Полет дерзновенных», а в 1969 городская газета «Кандалакшский коммунист» напечатала большой документальный очерк Ю. Еремина, воздав должное памяти погибших. Авторы этих очерков провели большую работу, собрав воедино волнующий материал.
Дирижабль вылетел из Москвы вечером 5 февраля 1938 года. Он пошел в полет по маршруту Москва-Мурманск, чтобы, испытав на этом участке материальную часть и приборы, отправиться затем к нашей льдине. Полету придавали немалое значение. Провожал аэронавтов Анастас Иванович Микоян. В свете прожекторов дирижабль оторвался от земли и ушел в ночь и метель.
Днем 6 февраля, благополучно пройдя Петрозаводск и Кемь, дирижабль двигался к Кандалакше. Он шел слепым полетом через плотную завесу сильнейшего снегопада. Из района станции Жемчужная, в 59 километрах от Кандалакши, пришла последняя радиограмма о благополучном ходе полета. В 18 часов 56 минут радиостанция дирижабля замолчала, а через час — тревожные сообщения местных жителей: в районе станции Белое произошел страшнейший взрыв. Дирижабль врезался в гору.
Местным лыжникам, ринувшимся на помощь потерпевшим, открылась зловещая картина: израненный лес, согнутый остов дирижабля, разбросанные части воздушного корабля, обгоревшие моторы, оборудование, продукты, выжженная растительность, трупы погибших, а у костра, на куске оболочки, шестеро живых из девятнадцати членов экипажа.
Фосфорные шашки, бензин и вытекающий из оболочки водород за какие-то мгновения превратили дирижабль в груду искореженных обугленных обломков.
Это было особенно страшно, так как ничто не предвещало катастрофы. Казалось, был проверен и взвешен каждый шаг. В Мурманске воздухоплавателей ждало завезенное туда горючее. Пополнив баки, дирижабль должен был отправиться прямо к берегам Гренландии, где дрейфовала наша льдина. Экипаж корабля отобран из лучших специалистов, подъем и посадка кабины тщательно отрепетированы. И вот — страшная трагедия…
В Москве, на Новодевичьем кладбище, в стене старого монастыря покоятся урны с прахом тринадцати аэронавтов: Н. С. Гудованцева, И. В. Панькова, С. В. Демина, В. Г. Лянгузова, Т. С. Кулагина, А. А. Ритсланда, Г. Н. Мячкова, Н. А. Конюшина, К. А. Шмелькова, М. В. Никитина, Н. Н. Кондрашова, В. Д. Чернова, Д. И. Градуса. Имена этих людей, погибших при исполнении служебного долга, должна знать наша молодежь.
6 февраля лед внезапно сплотило до десяти баллов, на месте недавних трещин возникли торосы. Ближайший вал вырос буквально рядом с нами — метрах в семи — десяти от палатки. Затем лед снова развело, и осколки нашего поля опять заплясали вокруг нас. Эту недолгую милость океана мы постарались использовать. Правда, гидрологическую лебедку, подплывшую к нам совсем близко, взять не успели, но керосин с одной из баз забрали. А едва закончилась разгрузка, как база снова уплыла. После нескольких погожих дней погода испортилась. Пурга и норд-остовый ветер никак не радовали. В густом снегопаде ни зги не видно, и черные флажки (они стоят в 15–20 метрах от палатки), ограничивающие нашу льдину, словно растворились во тьме.
Иван Дмитриевич, Петя и Женя лежали в шелковой палатке, которую нещадно трепал ветер. Конечно, не спали. Каждый старался укрыться за чем-нибудь: за нартой, за надутым клипперботом. Впрочем, клиппербот был не самым надежным укрытием. Он все время подскакивал и норовил сорваться с привязи. Да, положение сложное! Если бы началось сильное сжатие, то вряд ли мы смогли бы что-либо сделать. Где уж тут тащить тяжелые нарты, когда от ветра еле на ногах стоишь, да и куда их тащить? В трех шагах черная вода, пропасть, бесконечность. Ветер — 30 метров в секунду.
В девятом часу утра 8 февраля сорвало радиопалатку. Чтобы она не улетела, навалился на нее и позвал на помощь. Подмял палатку под себя, а лицо — на ветру. Вот когда до конца понял литературный образ «глаза вылезают на лоб»! Победить палатку удалось только благодаря помощи подбежавших товарищей. Пока все держали палатку, я залез внутрь, составил на пол всю аппаратуру, закрыл ее, и палатку повалили, прижав ко льду бурдюками с керосином. Связь временно прервана.
Отдыхал я после этой напряженной вахты в пашей старой палатке. Мы с Папаниным залезли на верхние полки и дремали, прислушиваясь к порывам ветра. Отдых не из приятных. Температура в палатке около нуля. Как раз столько, сколько надо, чтобы таял снег на одежде. Все сыро — ноги, одежда, шапка, капюшон. Малица как губка, хоть выжимай. Лежишь весь как в компрессе. Согреться невозможно.
Решили строить снежный дом. Мы с Папаниным резали пилами кирпичи, а Ширшов и Федоров клали стены. Выпилили яму, по ее краям возвели стены из снежных кирпичей, в дальней от входа половине оставили лежанку из снега, на которой будем лежать все рядышком, как на деревенской печке. Затем комплект новой мебели пополнили снежным кухонным столом. Вместо стропил положили палки и бамбук и натянули крышу из легкой материи. Правда, вползать в новое жилище надо на коленях, но все-таки защита от непогоды, главным образом от ветра, который в эти последние дни был непримиримо жесток.
Кончили строительство в сумерки. Дмитрич стал греть обед, а я — переносить кухонную утварь из старой палатки в новый снежный дом. Петя и Женя перетащили спальные мешки, одним словом — новоселье! Обедали уже в новом доме, при ярком свете керосиновой лампы. Здесь ей хватало кислорода, да и снежные стены хорошо отражали свет.
Не успели мы обжиться в новом доме и полюбоваться темнеющей на горизонте Гренландией, как к нам пожаловали медведица с двумя медвежатами. При свете луны, затянутой к тому же облаками, Папанин и Ширшов показали себя неплохими охотниками. В нашей обстановке запас свежего мяса был совсем не лишним. Мы понимали, что снять нас должны со дня на день, но предвидеть, как развернутся спасательные работы, не может никто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: