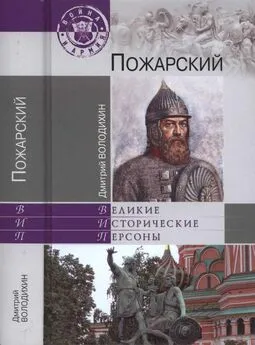Дмитрий Володихин - Пожарский
- Название:Пожарский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2012
- ISBN:978-5-9533-6403-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Володихин - Пожарский краткое содержание
Великая Смута начала XVII века высушила русское море и позволила взглянуть, что там, на самом дне его. Какие типы человеческие обитают у самого основания. Какая истина содержится в их словах и действиях. И, слава Богу, там, в слоях, на которых держится всё остальное, были особенные личности. Такие персоны одним своим существованием придают недюжинную прочность всему народу, всей цивилизации. Это… живые камни. Невиданно твердые, тяжелые, стойкие ко всяким испытаниям, не поддающиеся соблазнам. Стихии — то беспощадное пламя, а то кипящая мятежным буйством вода — бьют в них, надеясь сокрушить, но отступают, обессиленные. Они прозрачны, как горный хрусталь. Они верны своему слову, они крепко веруют, они не умеют изменять. Либо верность, либо смерть. Таков был князь Дмитрий Пожарский.
Пожарский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но далеко не все из земцев с готовностью шли на уступки подобного рода.
Среди вождей новгородского ополчения важную роль играл стряпчий Иван Биркин. На первых порах он числился в военном руководстве земского ополчения вторым после Пожарского. [141] Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб., 1836. № 201.
А в апреле 1612 года вышел из него, покинул Ярославль. Мало того, именно Биркин вел переговоры с полунезависимой Казанью. Тамошний начальник, дьяк Никанор Шульгин, строил планы отложиться от России, создать собственное государство. Отправив к нему делегацию во главе с Биркиным, нижегородцы просили о соединении. Казань дала отряд стрельцов со служилыми татарами, но от своего автономного положения отказываться не спешила. Когда Ярославль наполнился аристократами, значение Биркина стремительно уменьшилось. А он мечтал остаться в больших людях. Поссорившись с земским правительством, Биркин увел часть своей рати назад, к Казани.
Междоусобье вызывало горькие мысли у руководителей земского дела. С их высоким христианским мировоззрением они должны были печалиться: неужто опять общее дело, поставленное на ноги усилиями праведных людей, рухнет под гнетом страстей и злобы? Неужто Второе ополчение, видя грехи и ошибки первого, поддастся тем же соблазнам?
Но печали печалями, а для успеха всего предприятия требовалась бодрость, воля и вера. И Минин с Пожарским продолжали идти прежним курсом, преодолевая непонимание, сопротивление, вражду.
Для духовного окормления всей рати они пригласили старого митроплита Ростовского Кирилла, пребывавшего на покое. «Он же не презрел их челобития, — говорит летописец, — пошел в Ростов, а из Ростова пришел в Ярославль и людей Божиих укреплял, и которая ссора возникнет, начальники во всем докладывали ему» [142] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 121.
.
Великий старец Иринарх, затворник, ради Бога носящий на себе множество медных крестов и тяжких вериг, благословил земцев. Минину с Пожарским он вручил медный крест. Как видно, вождей земского освободительного движения укрепляли свыше. Ничего, потрудитесь, потерпите, не сходите с пути, такова ваша доля…
Как только Ярославль показал себя самостоятельной большой силой, немедленно начались переговоры с новгородцами. По внешней видимости самостоятельный, правительственный круг «Новгородского государства», на деле подчинялся шведской оккупационной администрации.
Шведы недавно взяли Тихвин, Ладогу, Орешек, активно действовали, стараясь приобрести и Поморье, приглядывались к Вологде. Пожарский небезосновательно боялся удара в тыл, когда полки его двинутся к Москве. Особенно серьезная угроза нависала над Белоозером. Туда из Ярославля шли подкрепления, планы строительства новых оборонительных сооружений… Даже во время похода к Москве Дмитрий Михайлович отправил на Белоозеро большой отряд во главе с воеводой Григорием Образцовым, хотя его ратники очень пригодились бы против Ходкевича.
С новгородцами обсуждалось призвание шведского принца на русский престол. Дмитрий Михайлович не отказывал и даже как будто соглашался, но обставлял свое согласие убийственными оговорками: вот когда принц явится в Новгород, да примет православную веру, тогда, конечно, почему бы его не принять? Послы отлично понимали: это вежливый отказ. Но они видели, что Совет всея земли располагает серьезной военной силой. Любой конфликт с ним означает настоящую большую войну. А зачем биться со своими, за какой-такой интерес? За интерес шведов?
Поэтому и они мудро удалились, уверив шведское начальство в доброжелательном отношении Минина с Пожарским.
Чем сильнее становилось Второе земское ополчение, а вместе с ним — независимое севернорусское государство, тем более накалялись его отношения с вождями подмосковного земства. Минин с Пожарским шли очищать Москву от чужих, а порой свои оказывались намного чужих горше. Приходилось применять воинскую силу, защищая города и земли от казачьего разбоя, прямо связанного с подмосковными «таборами». Так, из Переяславля-Залесского к Совету всея земли приехали «…бить челом начальникам всякие люди, что им от Заруцкого утеснение великое: не только что опустошил уезд, но и посады. Начальники послали воеводу Ивана Федоровича Наумова с ратными людьми. Иван же пришел в Переславль, и казаков отогнал, и Переславль укрепил» [143] Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 121.
.
Заруцкий больше не воспринимался как союзник. Его «воровское» поведение обличали. С ним не хотели иметь дела. Его зов идти под Москву игнорировали, поскольку ни единому слову его не верили. А он с добротным постоянством поддерживал и укреплял эту свою репутацию в глазах Минина с Пожарским…
Чувствуя непримиримую вражду к Пожарскому, атаман послал в Ярославль убийц. Открыто напав на Дмитрия Михайловича с ножом, один из душегубов ранил охранника, но князю не причинил вреда. Мерзавца схватили, пытали, и на пытке он во всем сознался.
Один из русских летописцев того времени сохранил странное сообщение: «Ивашка Заруцкой прислал в Ярославль, а велел изпортити князя Дмитрея Пожарского, и до нынешняго дня та болезнь в нем» [144] Пискаревский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978. С. 217–218.
. То ли отправке откровенных убийц предшествовала попытка околдовать Пожарского, то ли Заруцкий положился на «искусство» хитроумного отравителя, только уложить Дмитрия Михайловича в гроб ему не удалось. Но, быть может, яд, подложенный князю, способствовал развитию «черной немочи», на протяжении многих лет портившей ему жизнь.
На исходе июля Второе земское ополчение двинулось наконец к столице.
Душа народная, ослабев, почернев, испакостившись, оказалась изгнанной из собственного дома; долго-долго чистилась она, набиралась сил и теперь медленно шествовала к себе домой. Движение ее, хоть и неспешное, было неотвратимым. Начальное время Смуты явилось грехопадением ее. Свержение Шуйского и призвание поляков чуть не погрузило ее в невозвратную бездну. «Страстное восстание» явилось шагом к покаянию. Первое земское ополчение — борьба со старыми соблазнами, нахлынувшими с новой силой. Преодолев их во Втором ополчении, русская душа как будто исповедовалась, склонив голову и желая спасения. Теперь ее ждал путь к великому усилию и следующему за ним причастию победы. Но перед причастием добрый христианин читает особый канон, моля у Бога дать ему причаститься не во грех и не во осуждение. То, что входит в тело с причастным вином, должно встретить чистый сосуд. Очищенная душа народа возвращалась в жилище, принадлежащее ей по праву, и трепетала, ожидая: дарует ли ей Бог счастливое причащение?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: