Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки
- Название:Языковеды, востоковеды, историки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-9551-0515-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание
Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.
Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Вестнике МГУ» Широков опубликовал несколько важных статей Трубецкого, это были их первые издания на родине автора. Еще при жизни Олега Сергеевича евразийские идеи стали, наконец, популярны, но совсем не в той среде, к которой он принадлежал. Те, кто не приняли того, что произошло в августе 1991 г. и в октябре 1993 г., и сожалели о разрушенной державе, но уже не могли сохранять коммунистические идеи в неизменном виде, начали обращаться к «третьему пути» в евразийском варианте. И не надо забывать, кому принадлежит приоритет в открытии этих идей.
Широков имел сложный характер. У него часто не складывались отношения с людьми, а его промежуточное положение в научной жизни факультета дополнительно осложняло его отношения и со своей кафедрой, и с соседями с кафедры структурной (затем теоретической) и прикладной лингвистики. Помню, как довольно долго, обидевшись на что-то, он бойкотировал заседания диссертационного совета, в котором продолжал состоять, потом, правда, бойкот прекратился. Была здесь неуживчивость, но была и независимость. И нередко в конфликтных ситуациях он бывал прав.
Ушел из жизни Олег Сергеевич как-то неожиданно и быстро. Рассказывают, что он за несколько дней до смерти точно предсказал, какого числа умрет. Еще многое он мог бы сделать. А факультет стал без него бедней. Его яркая и нестандартная личность очень запоминалась.
Дойти до языка Адама
(С. А. Старостин)
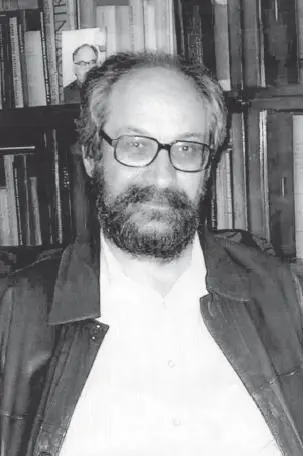
Писать о Сергее Анатольевиче Старостине (1953–2005) мне особенно трудно. Все другие мои «герои» – либо исторические личности, которых я знаю лишь по книгам, документам и воспоминаниям, либо мои старшие коллеги, между которыми и мной существовала дистанция. А Старостин был на восемь лет меня моложе, мы познакомились, когда он был школьником, а я студентом, мы были на «ты», и, казалось, это не та фигура, о какой надо писать мемуары. Но очень рано я стал чувствовать, что среди коллег моего поколения он отличается от всех остальных, что он выбивается из любого ряда. А потом неожиданная и ранняя смерть.
Но рассказ о Сергее Анатольевиче хочется начать с его отца Анатолия Васильевича Старостина. Сын мало его знал: родители разошлись вскоре после его рождения. Но, несомненно, ему передались некоторые отцовские способности, особенно полиглотизм.
Сам я с Анатолием Васильевичем не был знаком, но много слышал о нем от своего отца, который работал с ним в конце 40-х гг. в Издательстве иностранной литературы (Иноиздате, как тогда говорили, потом разделившемся на «Мир» и «Прогресс»). На отца он произвел сильное впечатление, и он много позже даже написал о нем рассказ «Полиглот». Единственный сохранившийся его экземпляр я потом нашел среди бумаг отца и подарил Сергею Анатольевичу, тот был ему рад, но после его смерти текст куда-то делся, поэтому кратко пересказываю основное по памяти.
За свою жизнь мой отец не встречал никого, кто был бы так способен к языкам. Как правило, наша интеллигенция тех лет с точки зрения знания языков делилась на две категории: одни их знали с раннего детства (отец с восхищением рассказывал про семьи, где дети должны были один день говорить по-немецки, следующий по-французски, третий по-английски), другие их не знали или, как отец, могли лишь читать. Отец даже говорил, что наши историки по сравнению с дореволюционным временем многое приобрели и в методологии (марксизм!), и в общем кругозоре, но потеряли в знании языков. Однако и среди потомственных интеллигентов редко кто мог выйти за пределы трех основных западных языков, уже знание испанского или польского казалось экзотикой.
В издательстве было немало переводчиков, но остальные специализировались по одному языку, редко по двум. А Старостин, вовсе не потомственный интеллигент, мог свободно говорить и, естественно, читать на более чем десятке языков, включая совсем редкие. И еще одна черта, резко отличавшая его от остальных сотрудников издательства: те давно закончили процесс освоения иностранных языков, кто в детстве, кто в институте, а Старостин все время расширял свой багаж, учил все новые и новые языки.
Как-то отец слышал разговор Анатолия Васильевича по телефону с испанцем, тот повторял лишь одно слово Si ‘Да’. Отец сказал ему после этого: «Ты что, кроме Si, ничего не знаешь?». Старостин очень огорчился и следующим летом специально поехал вожатым в пионерлагерь к испанским детям, потом он уже говорил на этом языке свободно. В эти же годы он осваивал и языки Прибалтики, отец от него узнал, что два языка из трех (литовский и латышский) очень похожи друг на друга, поэтому их можно учить одновременно, а третий язык (эстонский) совсем на них не похож, и он изучается отдельно.
Отец считал, что все дело в определенном центре мозга, который ведает языком, и у Старостина он достиг особого развития. Может быть, это и так: наука только начинает подступаться к этим вопросам. Но, надо сказать, Анатолий Васильевич выделялся своими способностями лишь в одной области. Работая в исторической редакции, он очень хотел стать кандидатом исторических наук, но диссертация не получилась. Он не укладывался в сроки, и отцу, тогда уже кандидату наук, поручили посмотреть, как идет работа. Оказалось, что Старостин сделал огромное число выписок из литературы на самых разных языках вплоть до португальского, но связать все это в самостоятельный текст не мог. Так он никогда и не защитил диссертацию. Не владел Старостин и стилем: над его переводами смеялись, и редакторам приходилось их сильно править.
Через некоторое время Старостин подал заявление об уходе, мотивировав это так: «Стало скучно, языки повторяются. Уйду в Гослитиздат, художественную литературу переводят с большего числа языков». Потом отец лишь изредка его встречал, при одной из встреч он спросил Старостина, где тот сейчас работает. Он ответил: «В Литературном институте, преподаю таджикский язык и таджикскую литературу». В журнале «Вопросы литературы» в 60-е гг. публиковали письма Б. Л. Пастернака грузинским писателям, и тот в одном из писем жаловался на подготовленные Старостиным подстрочники. Умерли мой отец и А. В. Старостин почти одновременно в конце 1980 г.
Во время одной из встреч отец спросил Старостина: «Верно ли говорят, что твой сын по знанию языков тебя обогнал?». Тот ответил: «Пока нет, но языков десять он уже знает». Речь шла не о Сергее Анатольевиче, а о его старшем брате. Так что семья дала, по крайней мере, троих полиглотов. Не знаю, относится ли к этой категории сестра Сергея Анатольевича, но и она выбрала себе редкую специальность: румынскую литературу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










