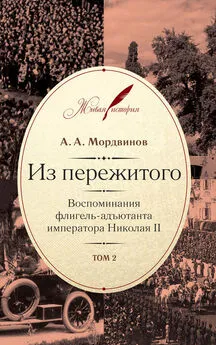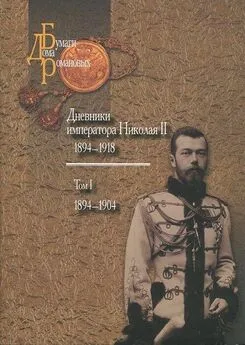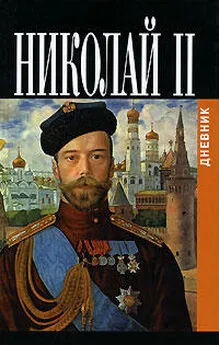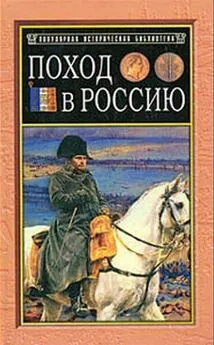Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Название:Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Кучково поле
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0413-4, 978-5-9950-0415-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Мордвинов - Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 краткое содержание
Впервые в полном объеме публикуются воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II А. А. Мордвинова.
Во второй части («Отречение Государя. Жизнь в царской Ставке без царя») даны описания внутренних переживаний императора, его реакции на происходящее, а также личностные оценки автора Николаю II и его ближайшему окружению. В третьей части («Мои тюрьмы») представлен подробный рассказ о нескольких арестах автора, пребывании в тюрьмах и неудачной попытке покинуть Россию. Здесь же публикуются отдельные мемуары Мордвинова: «Мои встречи с девушкой, именующей себя спасенной великой княжной Анастасией Николаевной» и «Каким я знал моего государя и каким знали его другие».
Издание расширяет и дополняет круг источников по истории России начала XX века, Дома Романовых, последнего императора Николая II и одной из самых трагических страниц – его отречения и гибели монархии.
Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Совершенно ложны утверждения, что государь якобы избегал смотреть прямо в глаза тех, с кем говорил. Всякий, кто близко соприкасался с государем, знал и его любимую привычку при первой встрече с незнакомым ему человеком, которому он хотел оказать милость или дать какое-нибудь важное поручение, отводить того для разговора ближе к окну или располагаться так, чтобы на лицо собеседника падало возможно больше света, дабы иметь возможность лучше его рассмотреть. Во время такой «испытующей беседы» – как мы, свита, ее называли – глаза государя настойчиво не покидали глаз того, с кем он говорил. Многие сознавались, что выдержать такой пытливый взгляд его им бывало нелегко. Но он часто, уже с детства задумывался, и действительно в такие минуты можно было подумать, что он не замечал окружающего. Большею частью это происходило в часы общения с близкими, ему привычными людьми.
Всем известна также непревзойденная, кажется, никем способность государя во время мимолетных встреч запоминать надолго, если не навсегда, не только лица, но и фамилии тех, с кем ему приходилось говорить. Достигнуть этого, конечно, невозможно без пристального вглядывания в лица собеседников. Не доказывает ли это лишний раз, что ни один из них не оставался для него «безымянным» и что ко всякому из них он, может быть, и бессознательно, продолжал испытывать интерес. Бывали, впрочем, крайне редкие случаи, когда некоторые фамилии он и забывал. Это всегда было ему неприятно – вероятно, как знак его недостаточного внимания к людям, и он напрягал всю свою память, чтобы их возобновить. Мне вспоминается, с каким удовольствием говорил мне однажды государь о том, что он «наконец, после долгих усилий, вспомнил фамилию того ветерана, о котором у нас шла с ним ранее речь».
Мне думается, что ни у одного из предыдущих русских императоров в их внутреннем мире не было заложено уже со дня рождения столько счастливых данных для самого близкого единения царя с его 175 миллионами подданных, как у него. Стремление к этому единению у него постоянно и проявлялось даже внешне, во всех возможных его положению случаях, несмотря на то, что всякое искание популярности ему, от природы скромному и застенчивому, было органически противно. Судя по примерам детства, в тайниках души он, наверное, довольно сильно желал ответной любви своих подданных, но подобное чувство может испытывать лишь тот, кто сам их любит. Проявления у него этого чувства подтверждались у меня неоднократно и моими собственными наблюдениями, когда во время совместных поездок с ним по России я видел государя, окруженного не только солдатами, воспитанниками кадетских корпусов, институтками, ранеными и крестьянами, но и заводскими рабочими и просто городскими обывателями.
Препятствия к сближению, конечно, заключались не в нем, а в этих, для общей массы все же немногих, кто громче других кричал о царе, обособлявшем себя от народа, и своими небылицами, и непродуманными, вызывающими требованиями старались внести возможно большую рознь между престолом и населением.
Всякий шаг государя узнать ближе настроения других людей, не передового политического толка, встречался ими лишь с негодованием и самыми неправдоподобными подозрениями.
В особенности возмущались, когда государь несколько раз принимал у себя во дворце так называемые «черносотенные организации», точно люди, наполнявшие их, не были теми же русскими, о благе которых он обязан был столько же заботиться, как и о благе остальных.
Не только Милюков, но и лица, стоявшие ближе к трону, как Мосолов, Д. Ф. Трепов и другие, называли эти приемы «неудобными», «непонятными» и даже «тайными», потому что, хотя они происходили на глазах у всех при посредстве военно-походной канцелярии, но без ведома и разрешения (!) церемониальной части, что вообще и ранее не было обязательным. Государя такие толкования необычайно сердили. «Неужели, – говорил он (кажется, гр. Фредериксу), – я не могу интересоваться тем, что думают и говорят преданные мне люди о моем управлении государством…»
Повторяю, что ни государь, ни императрица не искали легкой популярности; у них не было и намека на это, не свойственное их натурам стремление, проявление которого мне, при непередаваемой гордости за «своих», приходилось слишком часто наблюдать при других, даже наиболее могущественных иностранных дворянах. В обаятельной, естественной простоте государя скрывалось то настоящее русское величие, которое не нуждается ни в особо рассчитанных красивых фразах, ни в показных поступках, но которое тем не менее было способно притягивать к себе народные массы. Даже дни, протекавшие уже после отречения от престола, показывают, с какою силою это невольно чувствуемое величие сказывалось на настроении людей, окружавших тогда государя. Мне часто приходилось по моей службе и у нас в России, и за границей видеть при различных торжественных случаях появление монархов среди собравшихся подданных. Я старался всматриваться в те действительно величественные картины народной жизни, проходившие тогда перед моими глазами, невольно сам сливался с чувствами окружавшего меня людского моря, но нигде я не был так охвачен чувством особенной близости монарха к народу и народа к монарху, как у нас, во «внепарламентской», «не конституционной», а самодержавной России. Правда, я был русский и убежденный монархист и мог в этих случаях волноваться по своему врожденному русскому, но то же впечатление высказывали мне, с нескрываемым удивлением, и демократически настроенные иностранцы, которым приходилось присутствовать у нас при различных торжествах.
А между тем сколько раз многие из них, в том числе и доброжелательные монархи Европы (Эдуард VII, Гаакон и др.) высказывали мне сожаление, что государь недостаточно популярен и не делает ни одного шага для приобретения этой популярности. «Ему надо часто показываться в обществе, принимать у себя, устраивать сближающие обеды и праздники, а не жить такою замкнутою жизнью давно ушедших веков», – говорили одни. «Почему он, по примеру других иностранных государей, не входит в более близкое соприкосновение с оппозицией, – добавляли и многие доброжелательные русские, – ведь опыт ясно показывает, что не только любезные слова, пожатие покрепче руки, внимание, оказанное на виду остальных собравшихся, способны иногда в несколько мгновений переменить политическое мировоззрение этих в большинстве случаев с ненасытным честолюбием и самолюбием людей…»
Но всякий, кто хоть немного знал государя и имел с ним общение не только во время коротких служебных докладов, понимал, насколько его благородной прямой натуре было противно завоевывать расположение к себе такими средствами, всегда унизительными не только для себя самого, но и по отношению к своим недоброжелателям. Такое рыцарское, не лишенное его всегдашней жалости отношение к своим противникам мне приходилось наблюдать в различных случаях. Вспоминается, как во время разгара войны, когда пришла весть о тяжелой болезни австрийского императора, государь с душевным сочувствием сказал мне: «Бедный старичок, как ему тяжело переживать все то, что сейчас происходит… в особенности сознавать, что он мог бы и не дать разразиться войне, и был все же бессилен это сделать…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: