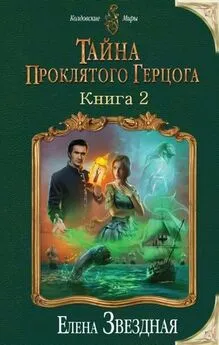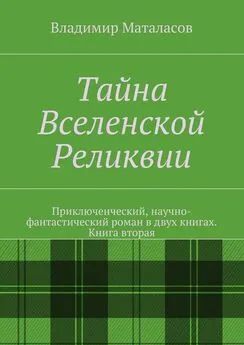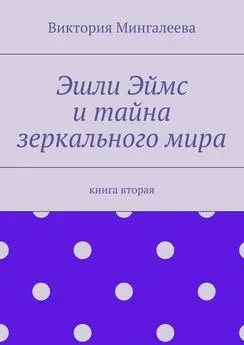Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам
- Название:Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эффект фильм»59cc7dd9-ae32-11e5-9ac5-0cc47a1952f2
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4425-0012-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам краткое содержание
О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».
Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.
Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.
В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.
Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
13 декабря 1920 года в советских газетах появилось сообщение Дальневосточного телеграфного агентства (ДАЛЬТА): «Болезнь председателя Совета Министров
Чита (ДАЛЬТА) 7.XII. Председатель правительства ДВР Краснощёков третьего дня занемог и слёг в постель. Инфотдел Мининдела ДВР сообщает, что на время болезни Краснощёкова управляющим Мининделом назначен Трилиссер».
Нам уже встречалась эта фамилия – Трилиссер. Во время X съезда РКП(б) Дзержинский предложил ему перейти работать на Лубянку и наладить службу внешней разведки. Приглядимся к этому человеку повнимательней.
Меер Абрамович Трилиссер(псевдонимы: Михаил
Александрович Москвин, Анатолий, Мурский) родился в 1883 году. В 1901-ом вступил в РСДРП, участвовал в революции 1905 года, в 1909-ом приговорён к 8 годам каторги и сослан в Сибирь. После февральской революции работал редактором социал-демократической газеты, а вскоре после октябрьского переворота стал членом сибирской ЧК. В ДВР его назначили членом Госполитохраны республики.
Меер Трилиссер был одним из тех, кому Москва поручила вести самый строгий надзор за деятельностью руководителей «буферной» республики.
Воспользовавшись болезнью премьер-министра, члены Дальбюро ЦК РКП(б) решили, что настала пора установить в « буфере » настоящую советскую власть. Но состоявшийся 4 января 1921 года в Москве пленум ЦК РКП(б) принял постановление, касавшееся суверенного и, казалось бы, совершенно независимого государства:
«Признать советизацию Дальневосточной республики безусловно недопустимой в настоящее время».
И всё осталось так, как было.
Однако отношения Краснощёкова с членами Дальбюро обострились. Главу правительства республики обвинили в диктаторских замашках и… он был отозван в Москву. Краснощёков был ещё нездоров, и его отправили в Крым на долечивание. А потом…
Аркадий Ваксберг:
«Будучи без дела, он выполнял „отдельные поручения“ кремлёвского начальства (одним из таких поручений была поездка с Айседорой Дункан в колонию для малолетних преступников – Краснощёков служил Айседоре и гидом и переводчиком), охотно входил в московскую культурную среду, посещая разные мероприятия, которым была так богата зажившая нэповской жизнью Москва. Тогда-то он и познакомился с Маяковским».
Здесь Ваксберг, скорее всего, ошибается – с Краснощёковым Маяковский познакомился годом раньше.
Летняя пора
О том, как выглядела столица страны Советов летом 1921 года, описано в «Воспоминаниях» Анны Абрамовны Берзинь (Фаламеевой), работавшей в Высшем Совете Народного Хозяйства (ВСНХ). Латышей с фамилией Берзинь (или Берзин) было тогда в Москве довольно много, за одним из них (героем гражданской войны Оскаром Михайловичем Берзиным) Анна Абрамовна была замужем. В своих «Воспоминаниях» она написала о городе, который заполонили «хамы» (Анна Берзинь называла их «дикарями»):
«Надо сказать, что Москва никогда чистотой не отличалась, но в те годы она была засыпана подсолнечной шелухой, какими-то бумажками, просто мусором, в котором преобладала чешуя и шкурки от сухой воблы. Дома выглядели неряшливо, многие подъезды были забиты досками и фанерой. По центральным улицам стадами бродили разряженные в пух и прах люди, в которых никто и никогда бы не признал москвичей. Именно разряженные, потому что чувствовалось, что весь туалет выставляется напоказ, чтобы все видели, скажем, манто дорогое и мех дорогой, туфли новые и тоже дорогие, даже серьги, большие и блестящие, казались вынутыми из чужих ушей и вдеты в мочку, чтобы не украшать, а блестеть и лезть в глаза. Тогда в первый раз увидела такие серьги на улице. Прежде их надевали в театр, на вечер к соответствующему платью, причёске, тому или иному стильному туалету. Кажется, мелочь, но она била в глаза, раздражала, удивляла бесвкусием, как будто человек надел на себя всё, что имел, и части его костюма кричали разноголосо, не попадая в тон. Всё носило случайный характер…
Самое страшное, что было в той толпе, отчего просто хотелось плакать, – это их речь, разговор. Они первые начали коверкать наш милый московский говор. Эти дикари, играющие в культурных людей, будто только овладевали языком нашей страны, вводя хлёсткие, но какие-то наглые голые слова: шамать, бузить, на большой, чинарики… (Отсюда, я думаю, выросли и ублюдки слова – ничего и всё выражающие – современные излюбленные слова нашей "модной " молодёжи: мощь, фирменно, чувак и т. д.)».
Начался очередной дачный период.
Как и все москвичи, Красногцёков тоже снял дачу. В Подмосковье. Бенгт Янгфельдт сообщает адрес:
«В Пушкино, недалеко от Маяковского и Бриков».
Дочь Краснощекова, Луэлла:
«У отца была под Москвой дача – плохо обставленное, необжитое помещение. Во время отдыха он любил совершать прогулку верхом на лошади».
У Маяковского летом 1921 года забот было предостаточно. Прежде всего, продолжались его занятия немецким языком с Ритой Райт, которая потом вспоминала:
«На даче утром с террасы доносилось громовое: Ich bin russische Dichter, bekant im russische Land!" („Я русский поэт, известный в России!“)».
Другой «русский поэт», Сергей Есенин, к тому времени не менее Маяковского «известный в России», знакомил общественность страны со своим новым произведением – стихотворной пьесой «Пугачёв». Он прочёл её 6 августа в располагавшемся на Арбате клубе «Литературный особняк». Среди слушавших были Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Лили Брик, а также работники московских театров.
Пьеса «Пугачёв» почти сплошь состоит из бесед главного героя с окружавшими его людьми (Пугачёв и Сторож, Пугачёв и Караваев, Пугачёв и другие его сподвижники, а также Хлопуша с Зарубиным и так далее). Когда перечитываешь «Пугачёва» ещё и ещё раз, складывается впечатление, что Есенин вложил в пьесу всё то, чего он не сказал (или не захотел сказать) допрашивавшим его чекистам.
На что ещё хочется обратить внимание, в финале пьесы народного вождя предают его же ближайшие сподвижники. Один из них призывает казаков:
« Творогов
Вяжите! / Чай, не выбьет стены головою.
Слава богу! Конец его зверской резне,
Конец его злобному вольчьему вою.
Будет ярче гореть теперь осени медь,
Мак зари черпаками ветров не выхлестать.
Торопитесь же! / Надо скорей поспеть
Передать его в руки правительства».
Услышав такие слова, Пугачёв произносит свой последний, завершающий пьесу монолог, в котором он прощается с жизнью:
« Пугачёв
Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать – и рукою не можешь двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черёмухой в степной провинции…
Боже мой! / Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?
А казалось… казалось ещё вчера…
Дорогие мои… дорогие… хор-рошие…»
Интервал:
Закладка: