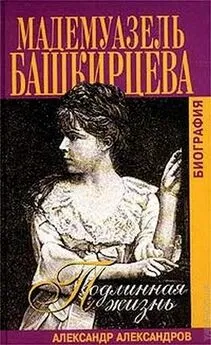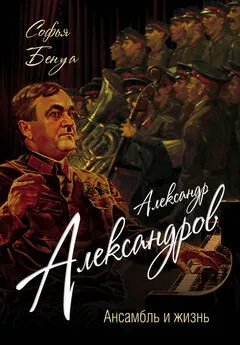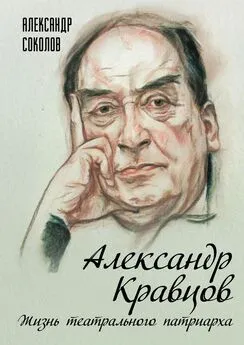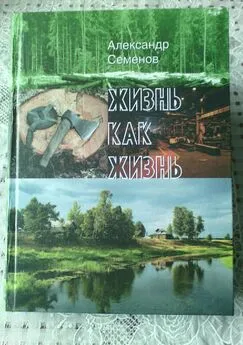Александр Александров - Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой
- Название:Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Александров - Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой краткое содержание
Кто такая Мария Башкирцева? Многим это имя ни о чем не говорит, кто-то слышал про рано умершую русскую художницу, жившую в Париже, некоторые читали ее «Дневник», написанный по-французски, неоднократно издававшийся в России в конце XIX–начале XX века и недавно переизданный вновь в русском переводе.
Жизнь Марии Башкирцевой старательно идеализирована публикаторами и семьей, создан миф, разрушать который мы совсем не собираемся, но кажется уже наступило время, когда можно рассказать о ее подлинной жизни, жизни русской мадемуазель, большую часть которой она прожила за границей, попытаться расшифровать, насколько это возможно, ее дневник, поразмышлять над его страницами, как напечатанными, так и сокрытыми, увидеть сокрытое в напечатанном, рассказать о быте того времени и вернуть имена когда-то известные, а теперь позабытые даже во Франции, а у нас и вовсе неведомые.
Журнальный вариант.
Подлинная жизнь мадемуазель Башкирцевой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Короче, Салон отодвинул Мопассана на задний план, потому что на переднем всегда была только одна фигура — она сама. Чтобы подкрепить себя в своем решении, она заказывает в магазине всего Золя и начинает запоем его читать. «Это гигант!» — следует вывод. А когда есть на свете «гиганты», зачем другие? Мопассан, конечно не Паша Горпитченко, но ведь и не Золя.
«Что я скажу ему? (Мопассану — авт.) Если бы это был Золя, я нашла бы что сказать, но им я не восхищаюсь, он талантлив, но не настолько, чтобы я обожала его». (Неизданное, 14 мая 1884 года.)
Вопрос с Мопассаном закрыт навечно. «Говорят, вы предпочитаете крупных брюнеток», — презрительно бросает она ему напоследок блондинка. Русская и русая мадемуазель «продинамила» бедного Ги, поматросила гребца и пловца, поматросила и бросила.
Глава двадцать седьмая
Парад смертей
Мария Башкирцева и Жюль Бастьен-Лепаж
Наступает последняя глава ее жизни. Начинается она с полного краха в Салоне:
«Конечно, я ничего не получила. Но это ужасно, досадно: я надеялась до сегодняшнего утра. Если бы вы знали, за какие вещи назначены медали!!!
Как же случилось, что картина не получила награды? Я не хочу прикидываться благородной наивностью, которая не подозревает, что существуют интриги; но мне кажется, что за хорошую вещь…» (Запись от 27 мая 1884 года.)
Ну почему же, интриги есть интриги, хорошая вещь или плохая, не имеет серьезного значения, когда интриги. Просто на сей раз у тебя не хватило связей, влияния и многого другого. Она набрала восемь голосов в жюри, а ученик Жулиана, Морен («Ничтожный Морен», по определению Башкирцевой), — на двадцать больше. Известно, что Морен прямо сказал одному академику: «Сделайте так, чтобы я получил медаль и моя картина — ваша!» Академик тоже не дурак, сделал: картина, получившая медаль, будет стоить дорого. Сплошь и рядом и по сю пору жюри покупали и будут покупать.
К тому же, Башкирцева совершенно не умеет быть дипломатичной: она сама называла прошлогоднее жюри идиотским, о чем ей прямо теперь и напоминают. От идиотов и получите, мадемуазель, сполна, тем более, что состав жюри год от года не претерпевает кардинальных изменений, состоит из тех же идиотов. В следующий раз будете умнее и не будете на каждом углу рассказывать, как вы поступили с «Почетным отзывом».
«Для меня все кончено. Я неполноценное, униженное, конченое существо». (Неизданное, запись от 29 мая 1884 года.)
Она не находит ничего умнее, как направить Жулиану разгневанное письмо и получает в ответ, что «ее детское, болезненное тщеславие не обеспечивает ни таланта, ни симпатии».
Единственная радость — ее наконец пригласили в русское посольство, от имени посла князя Николая Алексеевича Орлова Башкирцевы получают приглашение на раут. Теперь те, кто раньше с ней не кланялся, раскланиваются вполне любезно. Она, как всегда, в платье из белого муслина, идет под руку с месье Гавини, а вокруг министры, художники, князь Шереметев, Леман, «пожилой человек, очень симпатичный, значительный талант» (?). Но против ожидания, после раута, посол не передал свою карточку мадам Башкирцевой. Личного приглашения не последовало. Триумф оказался смазанным.
Тогда Мария со свойственным ей неистовством погружается в работу:
«Боже мой, до чего это все интересно — улица! Все эти человеческие физиономии, все эти индивидуальные особенности, эти незнакомые души, в которые мысленно погружаешься.
Вызвать к жизни всех их или, вернее, схватить жизнь каждого из них. Делают же художники какой-нибудь «бой римских гладиаторов», которых и в глаза не видали, — с парижскими натурщиками. Почему бы ни написать «борцов Парижа» с парижской чернью. Через пять, шесть веков это сделается «античным», и глупцы того времени воздадут такому произведению должное почтение». (Запись от 10 июня 1884 года.)
«Общественная скамья на Boulevard des Botignoles или даже на avenue Wagram — всматривались ли вы в нее, с окружающим ее пейзажем и проходящими мимо людьми? Чего только не заключает в себе эта скамья — какого романа, какой драмы!.. Неудачник, одной рукой облокотившийся на спинку скамьи, другую — опустивший на колени, со взглядом, бесцельно скользящим по поверхности предметов. Женщина и ребенок у нее на коленях. На первом плане женщина из простонародья. Приказчик из бакалейной лавки, присевший, чтобы прочесть грошовую газетку. Задремавший рабочий. Философ или разочарованный, задумчиво курящий папироску… Быть может, я вижу слишком уж много; однако всмотритесь хорошенько около пяти или шести часов вечера…» (Запись от 14 июля 1884 года.)
«Я гуляла более четырех часов, отыскивая уголок, который мог бы послужить фоном для моей картины. Это улица или даже один из внешних бульваров; надо еще выбрать… Очевидно, что общественная скамья внешнего бульвара носит совершенно другой характер, чем скамья на Елисейских полях, где садятся только консьержки, грумы, кормилицы с детьми, да еще какие-нибудь хлыщи. Скамья внешнего бульвара представляет больше драматизма для изучения: там больше души, больше драматизма! И какая поэзия в одном этом неудачнике, присевшем на краю скамейки: в нем действительно видишь человека… Это достойно Шекспира». (Запись от 21 июля 1884 года.)
Она стала лучше наблюдать, лучше писать, ее дневник это уже настоящая литература, вполне возможно, проживи она дольше, французы через несколько лет получили бы крупного писателя, а уж журналиста во всяком случае. На русском, фактически бытовом для нее языке, она вряд ли бы писала. Она сомневается в своем таланте художника, но не сомневается в литературном даре. Ящики ее стола завалены планами рассказов, романов и пьес. Ведь и последняя фраза ее последнего письма к Мопассану о том же: «Так дайте же мне возможность очаровать вас своими сочинениями, как вы меня очаровали своими».
И все же за это время она написала несколько картин, одна из которых, довольно большого размера, примерно 2 на 2 метра, холст «Весна (апрель)», была куплена для коллекции великого князя Константина Константиновича, а теперь хранится в Русском музее, а другая — пастель «Портрет Армандины» («Армандина — вот идеальная глупость!») приобретена государством для Люксембургского музея с посмертной выставки.
Но здоровье ухудшается, смертельная тоска гложет ее, ничто не идет на лад.
У Бастьен-Лепажа рак желудка, что уже совершенно точно. Она с матерью навещает его в мастерской, где вокруг больного художника разыгрывается домашняя идиллия: его мать в восторге, похлопывает Марию по плечу, хвалит ее волосы и называет ее: «Моя малышка Мари!»: старшая Башкирцева стрижет Жюля, как в детстве стригла своего сына Поля.
Его мать издает радостные крики:
— Я вижу его, моего мальчика, мое милое дитя!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: