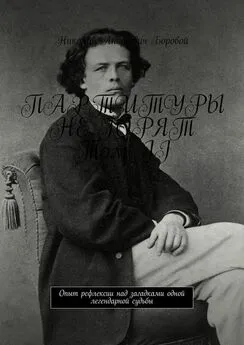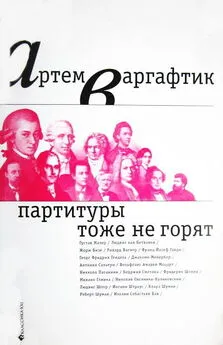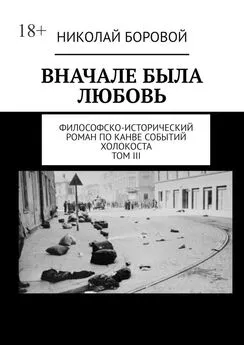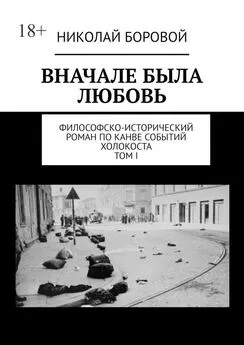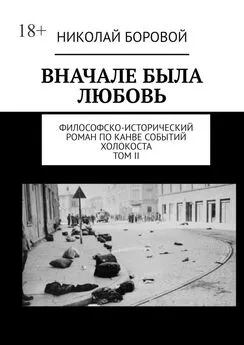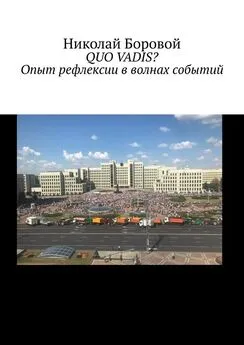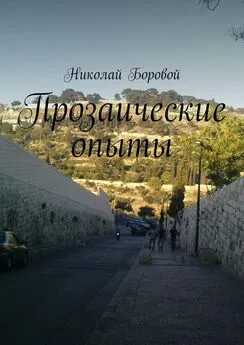Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
- Название:ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005086471
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Боровой - ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы краткое содержание
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Том II. Опыт рефлексии над загадками одной легендарной судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Симфоническая поэма «Фауст» А. Г. Рубинштейна стала первым произведением этого жанра в истории русской музыки. Симфоническая поэма «Тысяча лет», создание которой задумывалось М. Балакиревым к юбилею создания централизованного русского государства, была окончена и выпущена в свет только спустя двадцать лет в виде поэмы «Русь» (если вообще возможно серьезно счесть «симфонической поэмой» произведение, в котором целостный историко-философский образ русской цивилизации – не более, и не менее – мыслится создаваемым на основе по факту бездарной обработки трех русских народных песен), музыка же к драме «Король Лир», созданная Балакиревым в 1862 году (вне отношения к ее художественным достоинствам или недостаткам), связана с жанром увертюры. Создание произведения, обращение композитора к симфоническому воплощению этого сюжета, были во многом предсказуемы. Прежде всего – подобное было продиктовано общим «романтическим» философизмом творчества композитора, заявившем себя еще в создании симфонии «Океан», и принципиальными для круга «великих романтиков», в котором формировался композитор, поисками философского символизма образов музыки, возможностей музыки в деле выражения философских смыслов и идей, раскрытии философских смыслов знаковых литературных сюжетов и культурно-мифологических образов. В частности – именно тесная и глубокая связь с Листом, объемлющая и композиторство, и пианизм, иногда напоминающая соперничество великих законодателей европейской музыки, делала во многом неотвратимым обращение Рубинштейна к сюжету гетевского «Фауста» и жанру симфонической поэмы в целом: и для развития этого жанра в музыке классического романтизма, Лист делает едва ли не больше остальных, и сам сюжет Фауста незадолго перед этим эпически разработан им в четырехчастной одноименной симфонии. Тяготение к философизму музыкального творчества, стремление к раскрытию присущих образам музыки возможностей художественно-философского символизма, к выражению языком музыки прозрений философского опыта, не могло не обратить Рубинштейна к творчеству в жанре, программно философском, развитым Листом именно в качестве формата философского осмысления мира во всем культурно-историческом многообразии его проявлений и лиц, наиболее воплощавшем «романтический», экзистенциально-философский универсализм музыкального творчества. Наконец – дело в самом сюжете и произведении Гете, которое Рубинштейн, с молодости общавшийся с выдающимися философами и усвоивший глубочайшую связь философии с музыкальным творчеством, всю жизнь искавший возможности музыки в ее служении языком философских идей и мыслей, и оставивший в этом значительные плоды, называл «началом всякого мыслящего существования». Говоря проще – образы и философские коннотации сюжета гетевской трагедии, были основополагающими для осознания композитором существования и мира, а потому, попытку разработать этот сюжет в формате, наиболее соответствующем его особенностям и значению для самого себя, его культурному символизму, Рубинштейн конечно же не мог не предпринять.
Перед А.Г.Рубинштейном стояла в общем-то сложнейшая творческая задача – в одночастном симфоническом произведении суметь целостно, на основе системы символичных, смыслово емких тем, с глубоким символизмом взаимодействующих, воплотить сложнейший же, фундаментальный литературный сюжет с его образностью, событийностью и множественными философскими смыслами. Реализация подобной задачи требовала глубочайшего символизма музыки, и ее образности, и ее целостной ткани и композиционной структуры, и это удалось композитору быть может совершенно – образы произведения обладают символизмом и выразительностью, силой убедительности и воздействия поистине колоссальными, художественно-философский символизм и самих образов, и их сложных смысловых и композиционных связей внутри структуры и ткани произведения, кажется иногда «скульптурным». Произведение в целом манит его смыслами и загадками, как и иные произведения Рубинштейна этого же рода, оно ощущается «текстом» множественных смыслов, единым семиотическим полем, пронизанным глубокими внутренними связями, и потому же – подразумевает в его восприятии «вдумывание» и «считывание» реципиента, диалог на основе рефлексии и вникания с заключенными в нем философскими и сюжетно-литературными смыслами, идеями как философского, так и чисто музыкального плана. Собственно – из симфонических поэм и картин Рубинштейна возможно учить, что такое искусство художественного символизма в музыке вообще, и в симфонизме в частности, каким образом создается нередко поражающий символизм и самих образов, и целостной композиционной структуры и ткани произведения как таковой.
Однако, в самом деле – как же суметь передать в подобном формате всю гамму сложнейших философских и литературных смыслов, связанных с сюжетом и образами гетевской трагедии? Как выразить тоску и разочарование, настигающие человека посреди возвышенных исканий истины, которым он посвятил свою жизнь, его ностальгию по иным, забытым в этих исканиях, самым «простым» и знаковым возможностям жизни, рождающуюся из такой ностальгии мечту о любви? Как раскрыть языком музыки, в ее выразительных образах, не просто вселенский «дух зла и отрицания», а таков в качеств оборотной стороны возвышенного в человеке, его существовании и судьбе, его стремлениях и порывах, личностного начала в человеке как такового? Как раскрыть языком музыки философские идеи Гете о неотделимости одного от другого, о трагическом дуализме сущности и природы человека, о единстве в нем возвышенного, созидательного и утверждающего, обращенного к горизонтам исканий и идеалов, и «земного», низлагающего порывы и искания, нередко говорящего голосом всеобъемлющего отрицания начал? Семиотика опыта и начала «отрицания» в произведении Гете не однозначна, и поэтому неоднозначно трактовалась последователями Гете, и философами и писателями. М. Булгаков, задает самую «последнюю» по глубине идейно-смысловую конву романа «Мастер и Маргарита» (один из стержневых образов которого – гетевский по философским и литературным истокам дух зла и отрицания), начиная роман с с цитаты из Гете – «Я часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо». Для Булгакова эти слова обладают самым прямым смыслом – опыт отрицания, трагического конфликта с миром и адом социальной повседневности, ее искаженной реальностью, опыт разочарования и отчаяния для писателя подлинен, связан с духовным и нравственным, личностным началом человека, со свободой человека, является оборотной стороной этого в человеке. Все так – не иным и борющимся в человеке и за него «началом», а трагической и оборотной, неотвратимой стороной свободы, духовного и личностного, собственно человеческого. Воланд и его свита, совершая поступки зла, вместе с тем и на деле, в осознанно вершат добро, обнажают этими поступками ад и извращенность мира, извращенность «социально нормативного и морального». С позиций совести и свободы Булгаков, образами и деяниями своих героев, отрицает мир в его извращенности и преступности, реальность Пилатов, Латунских и Берлиозов, празднующих жизнь обывателей, и рядящихся в маски художников, но по сути таких же обывателей, «грибоедовцев», «деяниями зла и отрицания» в романе Булгакова говорят дух и личность, совесть и правда творчества, свобода и любовь в человеке. Опыт отрицания для Булгакова – голос вечного и неразрешимого конфликта духа, личности и свободы в человеке с адом мира и социальной повседневности, с извращенной реальностью социального существования, олицетворение враждебности личности мира, в котором карьера и статус, социальная ложь существования и поступков, обрекают человека преступать против совести и любви, уничтожать и губить в себе личность, подлинного себя. Воланд и его персонажи вершат в произведении не зло, а добро, обнажают их «бесовским карнавалом» извращенную сущность «социально нормативного» и «повседневного», преступную и адскую сущность того, что предстает как «мораль», и писатель указывает этим на ту мысль, что нигилистический опыт отрицания и разочарования в человеке человечен и подлинен, неотделим от того, что истинно человечно в нем – личности, совести, любви и свободы, высоты и чистоты стремлений, правды творчества, и оттого незримо присутствующий в сцене в Грибоедове автор, произносит те же слова отчаяния и бунта «яду, мне яду», которые мысленно произносит иссушенный отчаянием служитель мира и зла, боящийся во имя порывов совести и любви рискнуть карьерой, прокуратор Иудейский Понтий Пилат. Реальность Пилатов, Латунских и Берлиозов, вечных житейскими страстишками и негодяйствами обывателей из Варьете, и таких же обывателей-«грибоедовцев» из литературного бомонда чудовищна и есть для Булгакова ад, в отношении к ней невозможно не испытать разочарования и воландовского отрицания, ее нельзя не отвергать, перед ее всеобъемлющим торжеством не возможно не почувствовать той удушливой муки отчаяния, которая иногда прорывается словами «яду, мне яду!». Обывательское и «социально нормативное», враждебное личности и раскрывающим личность высоким и нравственным порывам – вот ад и олицетворение истинного зла для писателя, и куражащаяся над подобным воландовская свита, предстает в изображении писателя вершащей не зло, а добро. Однако – Н. Бердяев, к примеру, широко использовал в его тексте метафору «мефистофельского взгляда» на человека, означающую по словам самого же философа, вечно присутствующую в культуре попытку посмотреть на человека «снизу», «скептически и нигилистически низлагая» таким взглядом все «возвышенное», духовное и нравственное в человеке, представляя подобное как «иллюзию и заблуждение». Философы с их пространными и вечными спекуляциями врут, истинен только «объективный» и «естественнонаучный», «социологический взгляд на вещи, и человек есть лишь то, что говорит о нем такой взгляд. Любви нет – есть только сублимация полового инстинкта. Совести и ее императивов нет, есть только система социальных условностей и порожденный практикой «табу» социо-культурный комплекс. Личности и духа в человеке нет – есть только «социальный индивид» с набором «статистических», обусловленных социальной стороной и природой существования человека потребностей. Высоких и трагических порывов духа и совести, созидания и любви, связанных с осознанием смерти и трагическим отношением к смерти, с нравственно ответственным и ценностным отношением к самому существованию, порождающих конфликт настоящим и властвующими в нем химерами социальной пошлости нет – есть «простые человеческие», обычные и социально статистические ценности стремления и цели, и гегемония таковых должна полностью подчинять и порабощать, определять существование человека. Все высокое, духовное и личностное в человеке, все то императивное, что диктуется человеку изнутри, его самосознанием и нравственно-личностным началом, что вместо того, чтобы позволить существованию человека быть «карнавалом наслаждения и счастья», упоением страстями, самыми «простыми» радостями и возможностями, всеобъемлющей гегемонией наличных целей и потребностей, трагически «усложняет» существование, вносит в таковое страдания и испытания, томящие горизонты стремлений и бремя обязательств, мучительный и жертвенный труд над собой, должно быть «низложено» и развенчано как «иллюзия», а единственной «реальностью» является безликая стихия социального существования, ее аффекты и стремления, диктуемые ею цели, потребности и ценности. Вообще – надо «трезвее» смотреть на истлевшие», но не до конца изжитые торжеством «объективно-научного» и «социологического» взгляда, метафизические химеры «высокого» и «духовного»: «есть», «истинно» и «реально» только «низостное», только то, что единственно доступно охвату таким взглядом. Скорее всего – именно такая семиотика идей и опыта отрицания, была наиболее близка Гете и по большей части олицетворена им в образе Мефистофеля, «вселенского духа зла», под «злом» писатель понимает не только отрицание и разочарование, а и торжествующую их именем и силой «безликую» стихию «повседневного» и «мирского», «витальности» и социального существования. Словами «сила та, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо», которыми Мефистофель объясняет себя шокированному его появлением Фаусту, он очевидно совращает и соблазняет Фауста, обольстительно представляет «зло», буйство витальных страстей и безликой жизненной стихии, миражи витальных и повседневных химер, как «благо», увлекает его подобным в эту стихию, и тем конечном итоге и сознательно губит Фауста. У Гете дух отрицания и разочарования в «возвышенном», в горизонтах духовных идеалов, нравственных исканий стремлений, действительно предстает как начало зла, что и позволяет впоследствии расценивать семиотику образности трагедии как воплощение европейской культурной парадигмы, и в такой ее подоплеке, она конечно же окажет влияние на формирование концепции «аполлонистического» и «дионисийского» начала культуры Ницше. Обывательство для Мефистофеля не есть «зло», как для булгаковского Воланда, напротив – он зовет Фауста окунуться в стихию «обывательского» и «просточеловеческого», «обычного жизненного счастья», радостей и ценностей «настоящей жизни», найти в этом забвение и разрешение его мук, обуревающих его противоречий, отрицания и разочарования, побуждает Фауста облечь в выбор этого свой «бунт» и разочарование во властвовавших над его судьбой «химерах» духовного служения и познания истины. Мефистофель призывает Фауста окунуться в стихию «витальности» и социальной пошлости, отдаться во власть ее страстям и химерам, обещает ему обретение в этом «счастья» и «покоя», «гармонии» и «высшей удовлетворенности» жизнью, забвения и разрешения раздирающих его душу и дух, судьбу и существование противоречий, и в этом Мефистофель есть для Гете олицетворение зла. Ведь по самому сюжету, выиграть пари с Создателем и погубить Фауста, тождественно для Мефистофеля тому, чтобы суметь увлечь Фауста за собой, совратив его обещаниями обрести покой, победить разочарование и тоску, ощутить согласие с жизнью и высшую удовлетворенность ею, то есть – найти «истину» и путь разрешения вечных вопросов и противоречий именно в окунании в стихию «обывательства», «витальности» и социальной пошлости, «простых человеческих страстей, к которым, как убеждает Мефистофель свою жертву, сведены суть человека, «смысл и счастье» его существования. Мефистофель играет на разочаровании и отчаянии Фауста, на обуревающих героя борениях и муках, побуждает его «сойти с пути», отступить от духовного служения и идеалов такового, и вместо этого отдаться счастью «настоящей жизни» – именно так Мефистофель предлагает Фаусту разрешить вечные противоречия и испытания, на которые обрекает бремя разума и духа, и в этом он есть для Гете зло. Счесть «возвышенное», обращенное к кажущимся недосягаемыми горизонтам, духовное и личностное «иллюзией», «безумными мечтами», ибо оно и обрекает страдать и порождает обуревавшие Фауста муки, посмотреть на себя «правдиво» и «трезво», и значит – «низостно», с точки зрения беспечной и благоденствующей, удовлетворенной жизнью и положением вещей толпы, «простым» и «понятным», знакомым Фаусту так же как этой толпе, побуждениям: в этом Мефистофель убеждает Фауста, и в этом он есть для Гете зло. Падение Фауста для Гете состоит в том, что поддавшись власти обольстительных наваждений Мефистофеля, он отступает от пути духовного служения, то есть от утверждения и созидания, раскрытия личностного, «божественного» и «высшего» в себе, окунается в стихию «витальности» и социальной пошлости, надеясь обрести так «покой», «гармонию» и избавление от мук, предает забвению подлинного себя. Зло, заключенное в Мефистофеле – это торжество «низлагающего» взгляда на человека, опирающееся на муки и борения, испытания и противоречия, которые связаны в существе человека именно с его высшим, божественным и духовным, личностным началом: взгляда, объявляющего «истинным» и «реальным» лишь то в человеке, что связано в нем и его существовании с «безликой» витальной и социальной стихией, а «химерическим» и «иллюзорным» – духовное и «высокое», подлинное в нем, всегда становящееся источником трагических противоречий и конфликтов. Отрицание, олицетворенное образом Мефистофеля – это не отрицание «обывательского», «витального», «социально пошлого и извращенного», состоявшееся из глубин духа человека, на незыблемой основе нравственного и духовного в нем, а то отрицание, которое низлагает «духовное» и «высшее» в человеке, норовит объявить подобное иллюзией. Ведя своего героя кознями и обольщениями Мефистофеля к «счастью» и «гармонии», «покою» и «разрешению противоречий», к тому, что должно стать путем к этим сладостным надеждам и мечтам, но приводя его к катастрофе, писатель собственно и высказывает именно эту мысль и обнажает все означенное как гибельные иллюзии и химеры, как наваждения духовной слабости, с которыми, по-видимому, ему довелось бороться в собственной судьбе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: