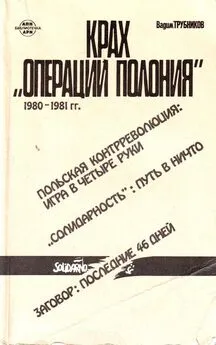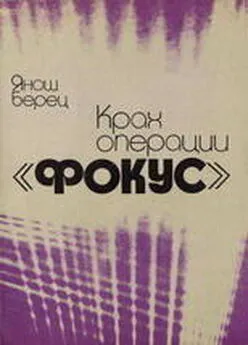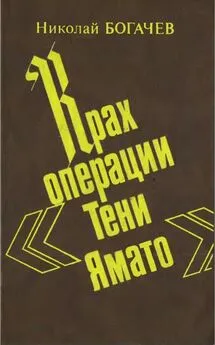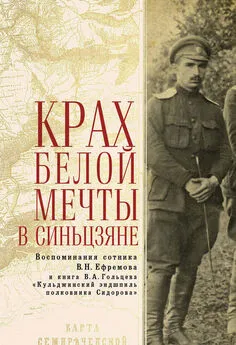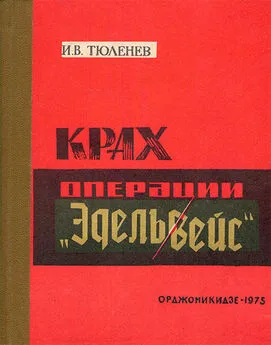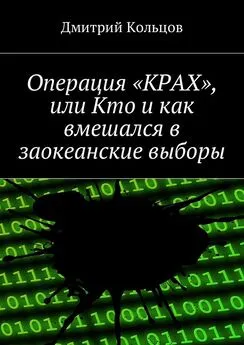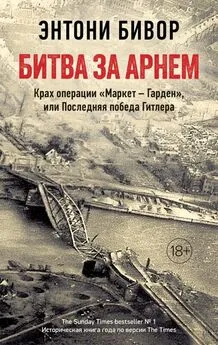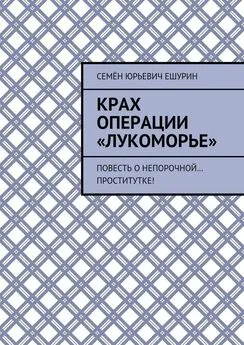Вадим Трубников - Крах «Операции Полония» 1980–1981 гг.
- Название:Крах «Операции Полония» 1980–1981 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Агентства печати Новости
- Год:1985
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Трубников - Крах «Операции Полония» 1980–1981 гг. краткое содержание
Крах «Операции Полония» 1980–1981 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во всяком случае, IX съезд открыл полосу сплочения членов партии вокруг выдвинутой им конструктивной программы нормализации положения в стране. После съезда они начали ещё глубже осознавать тот факт, что политический процесс идёт к открытой контрреволюции. Миф о «Солидарности» был развеян.
Настрой подавляющего большинства делегатов в условиях растущих угроз контрреволюции как нельзя лучше отражал лозунг, начертанный в зале съезда: «Мы будем защищать социализм, как независимость Польши!». А это означало, что IX съезд ПОРП стал важной вехой в постепенном изменении соотношения противоборствующих сил [82]. «Но партия тогда, — как сказал В. Ярузельский на Всепольской партийной конференции в марте 1984 г., — не настолько восстановила силы и общественное доверие, чтобы сразу изменить положение» [83].
Далее. Антисоциалистической оппозиции не удалось нарушить союз Объединённой крестьянской и Демократической партий с ПОРП. Не поддались давлению антисоциалистических центров и многие деятели общественно-религиозных союзов и объединений, выступив против разгула анархии в стране.
Принципиально существенным был и тот факт, что продолжали функционировать, и небезуспешно, социалистические оппоненты «Солидарности» — отраслевые и автономные профсоюзы, разделявшие позиции ПОРП и народной власти. Как уже отмечалось, во Всепольскую комиссию сотрудничества отраслевых профсоюзов входило 24 организации. Особенно быстро рос профсоюз строителей. С января по сентябрь 1981 г. количество его членов увеличилось с 200 до 500 тысяч человек [84].
Не удалось в той мере, в какой предполагалось, дестабилизировать государственный аппарат. Вне разлагающего влияния экстремистских лидеров «Солидарности» оставались армия, органы безопасности.
Расчёт контрреволюции на безоговорочную поддержку католической церковью всех ее акций также не оправдался. Церковь по-прежнему предпочитала позицию «посредника». Именно в связи с этим КОС — КОР оттеснил на второй план группу католических советников «Солидарности» [85].
Но все же руководители контрреволюции посчитали, что общий баланс сил к осени 1981 г. склоняется в их пользу, и сочли возможным перейти к следующему этапу «тихой» контрреволюции [86].
Первые признаки такого поворота обозначились ещё летом 1981 г., когда из лексикона руководителей «Солидарности» вдруг исчезли слово «социализм» и призывы к его «улучшению», «обновлению», «возрождению». Более того, стало даже модным в элитарных слоях «Солидарности» заявлять о полном неприятии социализма. Популярный в кругах «профобъединения» публицист Киселевский писал в июне 1981 г. на страницах еженедельника «Солидарность»: «Все у нас, исходя, быть может, из тактических соображений, высказываются за социализм, однако никто (возможно, тоже тактика) точно не говорит, как он понимает этот социализм и где видит его границы. Лично я нахожусь, — заключает автор, — в лучшей ситуации, ибо многократно открыто утверждал, что не являюсь и никогда не являлся сторонником социализма или коллективизма».
К осени 1981 г. контрреволюционный процесс, по мнению его режиссёров, вплотную подошёл к той точке. когда следовало приступить к осуществлению главной задачи второго этапа — созданию структур собственно «антигосударства», перехвату рычагов власти. И начать это они предполагали снизу — с самых элементарных механизмов государственной машины. Но здесь требовалась значительная перестройка собственных организационных структур, их переориентировка на эти новые задачи.
Однако к этому времени в самом лагере контрреволюции неожиданно резко проявились разногласия, которые затрудняли и осложняли ей этот поворот.
Дело в том, что на волне «забастовочного терроризма» — главного дестабилизатора общественной жизни страны — в руководство «Солидарности» влились новые «активисты». Будучи настроены столь же воинственно антисоциалистически, они до августа 1980 г. активного участия в подрывных антигосударственных действиях не принимали.
Появление на поверхности политической жизни Польши этих новых «борцов за свободу и демократию» на первый взгляд может показаться неожиданным. Но это только на первый взгляд.
Дело в том, что социальная база контрреволюции не ограничивается представителями бывших эксплуататорских классов, а также деклассированными и преступными элементами. В условиях деформации переходного к социализму общества, искажения его принципов она может значительно расшириться. Это, в частности, отметил теоретический и политический журнал ЦК КПЧ «Нова мысль» в своём январском номере за 1983 г.: «Контрреволюция может получить сравнительно широкую социальную базу для атаки против социализма в части мелкой буржуазии, если, например, сохранился мелкобуржуазный сектор в сельском хозяйстве, если сохраняются различные формы мелкого производства и частного предпринимательства. Контрреволюционные силы могут получить социальную опору и в так называемой «новой мелкой буржуазии», которая паразитирует на недостатках социализма, обогащается на спекуляции и коррупции и использует все возможности для нелегального частного предпринимательства».
Как раз из подобных слоев и рекрутировались «стихийные контрреволюционеры». После августа 1980 г. их имена, подобно грибам после дождя, запестрели на политическом поле «Солидарности» [88]. Именно они составили основу фракции «радикалов», «бешеных», или, как их тогда называли, «фундаменталистов», и достаточно серьёзно потеснили во всех звеньях «Солидарности» профессиональных контрреволюционеров и их креатуру. Последние на фоне своих «бешеных» собратьев выглядели «умеренными». «Радикалы» слабо разбирались в тонкостях контрреволюционной стратегии и тактики. Их кредо было элементарным и прямолинейным — не медля ни дня, сейчас же, идти на вооружённый штурм социалистического государства, не считаясь ни с какими нюансами внутриполитической и международной обстановки. К числу крайних «радикалов», составивших руководящее ядро этой фракции, можно отнести Я. Рулевского (Быдгощ), М. Юрчика (Щецин), А. Розплоховского (Катовице), Г. Пальку (Лодзь).
«Умеренные», или «прагматики», ни на минуту не упускавшие рычаги реальной власти в «Солидарности», ловко использовали зоологическую ненависть «радикалов» к социализму. Они поручили им роль ударной силы, роль непосредственных организаторов акций, расшатывающих экономические и политические структуры социалистического государства. Более того, ярый экстремизм «бешеных», оттеняя внешнюю респектабельность «умеренных», помогал истинным капитанам корабля контрреволюции вводить в заблуждение широкую польскую общественность относительно своих подлинных намерений [89].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: