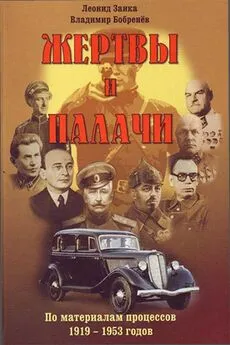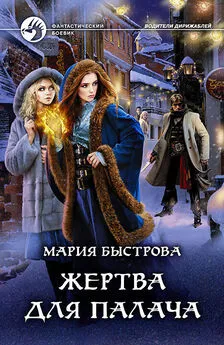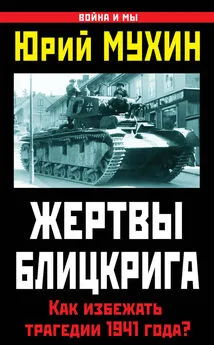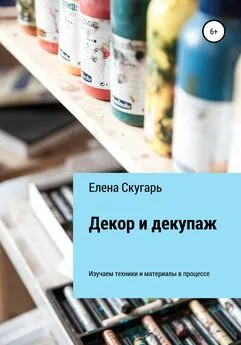Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Название:Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2011
- ISBN:978-5-8041-0568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов краткое содержание
Образный язык, глубокое знание предмета повествования (авторы имеют за плечами большой опыт прокурорской работы), привлечение обширного массива архивных документов, многие из которых длительное время оставались неизвестными российскому читателю, позволяют воочию представить страдания человека, попавшего под пресс классового, пролетарского правосудия. Нельзя освободиться от истории страны, в которой ты живешь. История требует осмысления. Наша книга для думающего читателя.
Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Шли письма от руководителей различных эмигрантских организаций о необходимости перехода к активным действиям против Советов. Видеть генерала Анненкова в роли организатора борьбы с большевиками хотела не только эмиграция, но и иностранцы, главным образом англичане, имевшие тогда большое влияние в Центральном Китае. Во многих китайских городах действовали созданные на деньги англичан и японцев антисоветские группировки. В шанхайском «Комитете защиты прав и интересов эмигрантов» верховодили бывший колчаковский генерал Ф.Л. Глебов и белогвардейский полковник Колесников. Последний попутно являлся редактором шанхайской газеты «Россия». Там же, в Шанхае, обосновалось и «Богоявленское братство» во главе с бывшим врачом анненковского войска Д.И. Казаковым. В Харбине энергично действовал тот же Остроухов, возглавлявший сразу три эмигрантских общества — «Мушкетеры», «Черное кольцо» и «Голубое кольцо», которые всячески старались препятствовать возвращению эмигрантов в Россию, вовлечь в свои ряды побольше известных людей.
Анненкова в армии знали. И снова получалось у него по пословице: куда ни кинь, везде клин. В уголовном деле Анненкова, к счастью, сохранились его записки о своем тернистом, извилистом жизненном пути. А потому предоставим слово самому атаману:
«Яродился в семье отставного полковника. Отец имел около 70 десятин земли и имение в Волынской губернии. Он умер в 1904 году. Полиции моего отца родословная идет от декабриста Анненкова. Восьми лет я был отдан в кадетский корпус, который окончил в 1906 году, затем по вакансии поступил в военное Александровское училище в Москве, где пробыл два года и произведен в офицеры, в чин хорунжего. Хорошо знаю китайский, мусульманский, французский и немецкий языки. Воспитание получил строго монархическое — тогда каждый офицер не имел права придерживаться никаких других взглядов. Я полагал, что монархический образ самый подходящий для России. По окончании военного училища меня назначили командиром сотни в 1-й Сибирский полк, затем перевели в туркестанский город Кокчетав в казачий полк. Обстановка в полку в тот период сложилась тяжкая. Среди казаков все сильнее проявлялось недовольство муштрой, строгостью порядка, развязным поведением офицеров. Многие казаки не хотели отрываться от своих станиц и полей. По существу, они принудительно были собраны в лагеря, к ним назначили офицеров, совершенно незнакомых с жизнью и обычаями казаков. За малейшее непослушание следовали строгие наказания, обычным, делом были рукоприкладство и мордобой. Один из случившихся на этой почве эксцессов привел к серьезному бунту, последствия которого изменили всю мою жизнь. Это произошло в самом начале германской войны.
Начальником лагеря являлся жестокий и грубый офицер Бородихин, который к тому же был еще и нервным, вспыльчивым, а потому избивал казаков по самому ничтожному поводу. Однажды он публично ударил молодого казака Данилова. Кто-то из присутствующих громко произнес: «Бить нельзя, нет у вас такого права». «Кто сказал? — гневно выкрикнул Бородихин, поворачиваясь к группе казаков, из которой исходил протестующий голос.
Ответа не последовало. Начальник лагеря грубо выругал всю группу, обозвал казаков трусами и добавил, что они могут говорить только в спину. Но стоило Бородихину повернуться, как вслед ему понеслись насмешки и ругательства. Разъяренный офицер выхватил револьвер и закричал: «Буду стрелять, если не замолчите и не прекратите ругань!». В ответ сразу со всех сторон от рядовых казаков и вольных последовала реакция: «Мало германских пуль, так еще и свои офицера по казакам стрелять собираются. Ничего, и на них найдутся…»
Это была уже открытая угроза. Начальник лагеря вызвал офицеров, приказал развести казаков по баракам и казармам, выявить и представить ему всех недовольных. Однако казаки вышли из повиновения, чему способствовало неправильное поведение офицеров, пытавшихся усмирить подчиненных, но те так, как нужно. Было избито много офицеров, часть которых сгруппировалась в общежитии и начала стрелять по окружавшим их казакам. Отстрели-ваясь от наседавших бунтовщиков, Бородихин израсходовал все патроны, выпустив в себя последнюю пулю. Но он был только ранен и тут же был добит преследователями. Большинство офицеров разбежались. Меня же казаки не тронули, более того, по их просьбе мне пришлось принять на себя командование сразу тремя полками. Полагаю, что я пользовался среди них авторитетом за уважительное отношение к каждому казаку. Мне удалось восстановить порядок во многом благодаря тому, что вся сотня, которой я командовал, была полностью на моей стороне.
О случившемся я донес войсковому атаману. Из Омска к нам тотчас же прибыл генерал Усачев с пехотным полком и экспедицией, начавшей расследование случившегося. Генерал потребовал от меня назвать зачинщиков и лиц, причастных к убийству начальника лагеря Бородихина. На это я ответил, что как офицер русской армии, не могу быть доносчиком, чем вызвал явное неудовольствие генерала. Он обвинил меня в укрывательстве и бездействии, за что меня предали военно-полевому суду вместе с 80 другими казаками. Совершенно неожиданно суд меня оправдал, однако вышестоящий суд с таким решением не согласился и приговорил меня к одному году и четырем месяцам заключения в крепости с ограничением в правах. Отбытие наказания мне заменили направлением на германский фронт».
4-й Сибирский полк, куда прибыл Анненков, вел тяжелые бои в Белоруссии. Неудачи преследовали сибиряков, и в одном из кровопролитных боев полк был почти полностью разбит. Молодому офицеру удалось собрать остатки людей и вывести их к Гродно, где они влились в общий поток отступавших российских войск. Тогда-то Анненков и стал командиром одного из партизанских отрядов.
«Начальником такого отряда, или атаманом, назначали офицера, удовлетворявшего некоторым специальным требованиям, которого предварительно выбирали все командиры полков, входивших в формировавшийся отряд. Партизан набирали из числа добровольцев. Когда я выразил желание служить в партизанах, меня назначили атаманом одного из отрядов, которым я командовал в 1915–1916 годах. В качестве отличительной формы партизаны имели нашивку: черный с красным угол, череп и кость, а также значок с такими же эмблемами и надписью: «Снами Бог». На фронте заниматься политикой было некогда. Тем не менее, мы знали, что в тылу царит разруха. Ходили разговоры, что мы не можем победить германцев из-за того, что через правительство идет множество измен, там находится масса продажных министров. К нам на фронт приезжали агитаторы, мы ходили на митинги. Представители различных партий, чаще всего социал-революционеры и кадеты, утверждали, что император Николай II находится под большим влиянием жены и благодаря своему слабому характеру не способен управлять страной. Впрочем, офицерство не разбиралось, что из себя представляла та или иная партия, разговоров по этому поводу между нами не было. Думаю, не ошибусь, если скажу, что не только рядовое офицерство, но и высшие чины армии этим вопросом не интересовались и над ними серьезно не задумывались. Какой-то официальной информации о политической жизни страны не поступало. Обо всем я узнавал из газет, от приезжавших из тыла, возвратившихся из отпусков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: