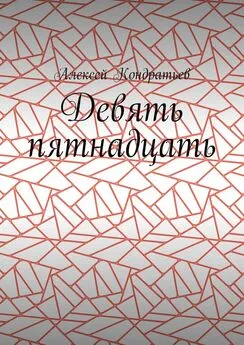Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями
- Название:Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9346-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями краткое содержание
Один из самых известных и ярких прозаиков нашего времени, выпустивший в 2010 году на Первом канале совместно с Леонидом Парфеновым документальный фильм «Хребет России», автор экранизированного романа «Географ глобус пропил», бестселлеров «Тобол», «Пищеблок», «Сердце пармы» и многих других, очень серьезно подходит к разговору со своими многочисленными читателями.
Множество порой неудобных, необычных, острых и даже провокационных вопросов дали возможность высказаться и самому автору, и показали очень интересный срез тем, волнующих нашего соотечественника. Сам Алексей Иванов четко определяет иерархию своих интересов и сфер влияния: «Где начинаются разговоры о политике, тотчас кончаются разговоры о культуре. А писатель — все-таки социальный агент культуры, а не политики».
Эта динамичная и очень живая книга привлечет не только поклонников автора, но и всех тех, кому интересно, чем и как живет сегодня страна и ее обитатели.
Текст публикуется в авторской редакции.
Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это про «Золото бунта».
Экскурсоводом я работал зимой на автобусе. Работа мне нравилась, хотя была довольно однообразной. Летом я работал гидом-проводником — водил группы по рекам Урала, преимущественно по Чусовой. Интерес к этой работе зависел от группы, которую я вёл. Если группа — нормальные взрослые люди, то было очень интересно. Если трудные подростки — то скучно, потому что им ничего не надо было.
Были и специфические переживания. Например, меня всегда напрягало, когда туристы считали, что местные жители знают реку лучше проводника. На собственном опыте я убедился, что местные жители худо-бедно знают реку на 10–15 км от своего посёлка, а историю своего селения и реки в целом не знают вообще, точнее, почти все их немногие познания — мифы, вроде того, что в каждой пещере зимовал Ермак, а каждую руину построили Демидовы. На той работе я понял, что на деиндустриализованном Урале местные жители утрачивают и идентичность. (Вообще-то до меня в 1940-х годах это открыли фольклористы экспедиции профессора Китайника, которые не нашли никаких следов фольклора, использованного Бажовым.) Досада на наивных туристов стала для меня мотивом написать сначала путеводитель, а потом и книгу про Чусовую; из этих работ родилось и «Золото бунта».
Я написал роман о человеке, которого не подпускают к делу, для которого он создан богом и судьбой, и вложил в героя — в Осташу Перехода — свой собственный гнев, потому что и сам тринадцать лет не мог стать профессиональным писателем, о чём мечтал всю жизнь.
Только что дочитал «Ненастье». Вопросов сразу несколько:
Стали ли товарищи-инвалиды переводить Неволину деньги на счета? Или, раз его задержали, это уже не актуально?
Почему вы решили закончить события книги именно в 2008 году? Выбор этого года имеет значение?
Почему Неволин не попросил Шамса просто помочь ему и Тане с переездом в Индию и поиском работы? Миллионы Герману всё равно, судя по всему, были не так нужны, а Шамсу это было бы не сложно.
Скорее всего, товарищи-инвалиды не стали переводить Неволину деньги. Весть об аресте Неволина, безусловно, разошлась быстро, и переводить деньги не имело смысла.
Логика выбора дат несложная. Герман приезжает в Батуев в путч 1991 года, Серёгу убивают в год кризиса — в 1998-й, Герман терпит крах в год другого кризиса — в 2008-м. Судьба героя приурочена к судьбе страны.
А почему Неволин не попросил богатых товарищей-афганцев помочь ему? Этот же вопрос Герману задавал Володя Канунников. И Герман ответил: «Сейчас так не делается». Его мировоззрение определяется не «афганской идеей», а господствующим форматом человеческих отношений. В 2007 году в России уже не просили «помочь по-братски». У кого не было миллиарда, тех отправляли сами знаете куда.
Досадно, что наш кинематограф не породил ничего, популяризирующего родную культуру и православную мистику, идею прижизненного обожения человека. Хотя создать образ монаха-исихаста, ведущего войну на уровне помыслов, от молитвы которого разлетаются демоны, было бы потрясающе! Слава Богу, прототипов целые патерики! Образы святых Антония Великого, Григория Паламы или Максима Исповедника… А из Древнего патерика уж точно выйдет сериал! Алексей, насколько интересно для вас было бы создание сценария по мотивам житий святых отцов?
Я тоже считаю, что из православных сюжетов вышла бы отличная мистика или фэнтези. Понятия не имею, почему эта идея никому не интересна.
Я попробовал сделать нечто подобное (не в чистом виде, но достаточно явно выраженное) в романе «Летоисчисление от Иоанна». Там над Кремлём являются всадники Апокалипсиса, царица Мария Темрюковна превращается в вавилонскую блудницу, из Опричного дворца вылезает гигантская саранча с лицом царицы, Христос хоронит русских ратников под Полоцком, Богородица отгоняет медведя от девочки-сироты, икона рушит мост, к Ивану Грозному являются казнённые бояре с отрезанными языками, а сам Грозный пирует вместе с колдунами, чернокнижниками и мертвецами. Я горжусь этими придумками. Ради них (то есть ради идеи, которую они выражают) я нарушил реальный ход исторических событий. Но П. С. Лунгин выбросил эту мистику из сценария фильма «Царь» (и фильм получился не пойми что: вместо мистерии — псевдоистория, от сапога осталась только подошва). А читатели, которые читали этот роман, даже не заметили наличия этих эпизодов и пришли к выводу, что роман почти не отличается от фильма, но Иванов не знает истории.

Но для подобной православной мистики необязательно брать отцов церкви. Есть множество реальных священников (и даже святых), в жизни которых полно подобных чудес. Об одном таком священнике — тобольском митрополите Филофее (Лещинском) я пишу в новом романе «Тобол» (разумеется, с чудесами, то есть с фэнтези).
В общем, и «Псоглавцы» — тоже отчасти «православное фэнтези».
А ведь существовало множество совершенно фантастических людей — мистиков. Не только исихасты или какие-нибудь отчитчики. И необязательно Распутин. Мне, например, очень интересен Кузьма Пиляндин — «Кузька-бог». Или идеологи самосожжений. Или, например, несториане, которые спрятали где-то на Тянь-Шане мощи евангелиста Матфея (хотя это случилось до православия). Да много всего. Это нетронутый кладезь сюжетов и идей.
Из православных сюжетов получилась бы отличная мистика, не уступающая в выразительности фэнтези. Но Россия сама себе не интересна. Поэтому, например, нет русского вестерна — хотя русский «фронтир» был
Больше всего меня привлёк роман «Ненастье». Понятно, что он пророс через книгу «Ёбург». Скажите, пожалуйста, почему? Почему вы выделили именно этот сюжет и он захватил вас? Ведь можно было выхватить любой другой, и получилось бы не менее хорошо.
Когда я читала роман, мне казалось, что некоторые события, которые взяты из разных промежутков времени, специально поставлены рядом. Вот ты читаешь об одном, а потом переворачиваешь страницу и видишь противопоставление, некий контраст тому, что прочёл перед этим. Это было только в моей голове или вы специально так подчёркивали некоторые действия, слова, сцены?
Ещё хотелось бы узнать, есть ли связь у «Ненастья» с другими вашими произведениями, не считая «Ёбурга»?
Отвечу не по порядку.
Нет, никаких взаимосвязей «Ненастья» с другими моими романами нет.
События из разных времён я действительно монтировал по принципу контраста (хотя и не всегда). Это делает «картинку» стереоскопической, объёмной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: