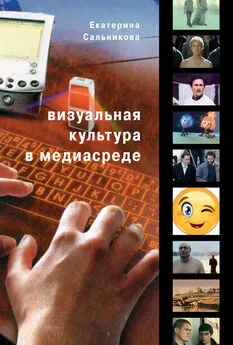Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Название:Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449374813
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Сальникова - Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 краткое содержание
Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Семнадцать мгновений…», на наш взгляд, произвели негласный переворот в понимании сути политики. Для советского сознания она ассоциировалась с удачными или неудачными акциями массового насилия, будь то бунт, восстание, революция, война. В фильме Татьяны Лиозновой и Юлиана Семенова главную партию играют те, кто действует мирными средствами, нередко в полуприватной или псевдоприватной обстановке, использует насилие лишь в крайних случаях, и насилие не массовое, не санкционированное официально и гласно.
Среди главных модераторов новых политических ситуаций оказываются не только и не столько люди в военных мундирах. Во-первых, это те, кто умеет одинаково элегантно носить как военную униформу, так и штатский костюм (такими являются Штирлиц и генерал Вольф), и даже фрак (во фраках показаны Шелленберг и Штирлиц на приеме по случаю дня рождения фюрера). Надо уметь быть человеком, не выделяющимся среди мирных граждан в мирном городе, в светском зале, на набережных, в кафе, поезде, музее, на вокзале. Потому что именно там, а не на полях сражений, делается политика. Это вполне современное прочтение главных судьбоносных и семантически насыщенных мест как переходных территорий, публичных пространств повседневности [259].
Во-вторых, в модераторы судеб мира автоматически попадают крупные ученые, занимающиеся разработками оружия или каких-либо иных, важных средств массового воздействия. «Видимо, технический прогресс будет определять будущее истории, особенно теперь, когда ученые вот-вот должны проникнуть в тайны атомного ядра. Мне думается, на западе и на востоке это уже поняли ученые, но, к сожалению, до этого еще не дотащились политики. Кстати, мы с вами будем свидетелями деградации профессии политика в том ее значении, в котором мы к ней привыкли за последние девятнадцать веков истории…» – действительно умно рассуждает Шелленберг. В том, что он предрекает политикам, есть уже видение ситуации начала ХХI века. А в его словах о роли науки можно услышать элементы концепции Тимати Люка, считающего, что многим жителям больших городов сегодня понятно, что «структуризация будущего происходит не прямыми средствами и незаметно в исследовательских лабораториях… а не в парламенте…» [260]
По краешку сюжета проходит история физика Рунге, томящегося в концлагере именно потому, что он слишком близко подошел к созданию атомной бомбы. Штирлиц не мог его не остановить, не притормозить его научные опыты. Но Штирлиц устраивает его в госпиталь, как бы внутренне разделяя деятельность «Рунге ученого» и Рунге человека. На самом деле он ни в чем не провинился перед рейхом, однако не ощущает и ответственности перед миром за свои открытия. (Эта тема протягивает нить к роману Солженицына «В круге первом» и теме ответственности человека перед миром, о чем развернуто рассуждает в своей статье Л. И. Сараскина [261]).
Тема ответственности науки и ее роли модератора бытия человечества отнюдь не устарела в наши дни. Тогда же, в начале 1970-х, речь Шелленберга могла казаться ненужным монологом с множеством риторических абстракций, оттягивающих главное событие после «прохода Штирлица по коридору».
Тем не менее, фильм в целом начертал два типа людей, интересующих в контексте обсуждения будущего. Это интеллигент и интеллектуал. Интеллектуал – Рунге, в какой-то степени – лишенный морали Клаус, в какой-то степени – генерал Вольф, вполне способный вести переговоры, формулировать цели и приоритеты, мотивировать позицию, контролируя каждый свой жест, каждое свое слово. Интеллектуал – умный, образованный человек, но он может и не осознавать своей ответственности за судьбу мира, может не жить в соответствии с нормами гуманистической морали. Интеллигент – не просто человек интеллектуально-духовного труда, он живет с ощущением личной ответственности за происходящее, за сохранение гуманистической морали. В идеале он не поставит ценность научных открытий или самоспасения выше достижения приемлемого состояния мира, страны, какого-либо сообщества. Наличие несомненной общности и вместе с тем нетождественность интеллектуалов и интеллигенции повышает конфликтное напряжение вокруг концепта будущего в данном произведении.
Упорство, с каким «Семнадцать мгновений…» выстраивают «компанию» новых модераторов будущего, достойно сегодня неподдельного интереса. Третий тип такого модератора – ученый скорее гуманитарной направленности, профессор, писатель (за два дня до самоубийства Плейшнер начинает писать новую книгу). Тот, кому не безразличны судьбы страны и человечества, и кто не считает возможным самоустраниться в ситуации, когда появляется перспектива участия в трансформации жизни немецкого общества.
И, наконец, священник, «высокодуховный, сложный, сомневающийся, как настоящий мужественный интеллигент», по характеристике А. А. Новиковой в исследовании о феномене отечественной интеллигенции [262]. Выбравшись в Швейцарию, пастор Шлаг начинает обсуждать факт переговоров Вольфа и Даллеса с лицами из католической церковной иерархии, тем самым наглядно показывая ту суть роли священника, о которой еще в первой серии сказал Штирлиц: «Посредничество его естественное состояние».
Вся эта разношерстная компания объединена именно опознавательными знаками интеллигенции. Все перед разговором о политике или в процессе таких разговоров обязательно обращаются к темам искусства и науки. Все они появляются на фоне книжных стеллажей (мечтой советских интеллигентов были именно стеллажи). В уголке домашней библиотеки, на уютные кресла, усаживает пастор Штирлица, пришедшего для важного разговора. С Плейшнером герой начинает беседу под видом интереса к определенному изданию – персонажи находятся между стеллажей, наполовину уже пустых, библиотека эвакуируется. У экс-министра в изгнании, Краузе, с которым беседует пастор, стеллажи «по совместительству» служат декоративной защитой для сейфа, который открывается за ними. Переговоры в Берне ведутся в особняке специального ведомства США, с массивными стеллажами, уставленными книгами. Здесь это не более чем антураж, даже декорация, подобающая серьезным политическим делам и облагораживающая их истинные смыслы. Вольф от нечего делать берет с полки какой-то томик и тут же кладет на место, рассуждает о классическом итальянском вокале, но думает исключительно о раскладе политических сил.
Таким образом, фильм использует ауру библиотеки как уникального, неповторимого организма, своего рода «храма со своей мистической составляющей», кодексом поведения и комплексом сопутствующих ассоциаций [263]. Обозначение библиотеки в визуальной материи необходимо, чтобы зримо отделить «людей библиотеки», тех, кто будет определять лицо Европы – от «безмозглых костоломов» и малообразованных функционеров рейха. Последним суждено потерпеть фиаско на политической арене, как получается согласно «Семнадцати мгновениям…». Вопреки документальным фактам в фильме сообщается, что почти у всех приближенных фюрера среднее и даже незаконченное среднее образование. Штирлиц с такими категорически не работает. Ему нужны «люди библиотеки». Те, что живут «с ощущением посреднической миссии», характерным для субкультуры интеллигенции в целом, как отмечает А. А. Новикова [264].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: