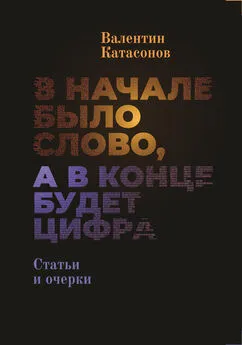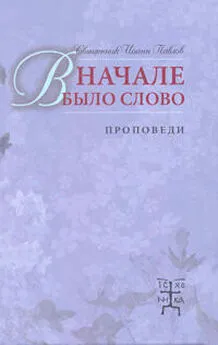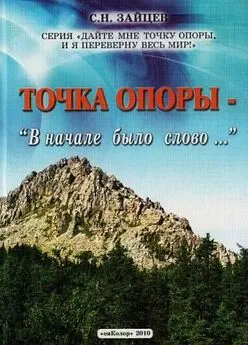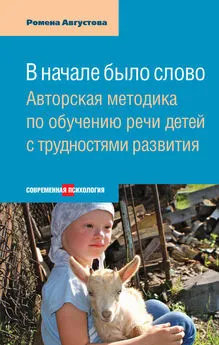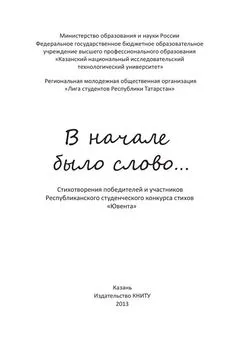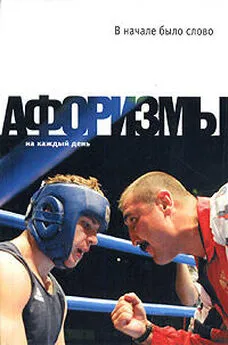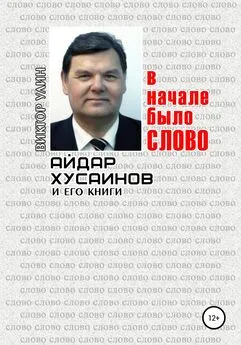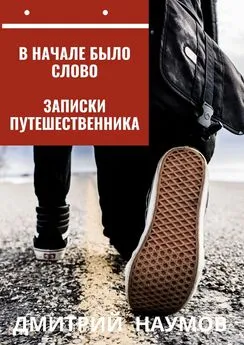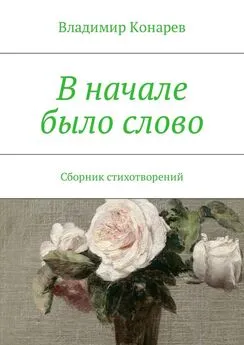Валентин Катасонов - В начале было Слово, а в конце будет цифра.
- Название:В начале было Слово, а в конце будет цифра.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Кислород
- Год:2019
- ISBN:978-5-901635-69-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Катасонов - В начале было Слово, а в конце будет цифра. краткое содержание
Первая фаза – эпоха Словократии, когда Европа жила Словом (с большой буквы), то есть в согласии со Словом, Иисусом Христом, и Священным Писанием. Во второй фазе Истории, эпохе идеократии, Слово подменяется словом «здравого смысла», которое быстро превращается в ложное слово. Далее на арену Истории выходит капитализм – эпоха борьбы за количественное наращивание богатства, или числократия. В наступающей эпохе, эпохе цифрократии, инструментом подчинения человека князю мира сего становится цифра как управляющий электронный сигнал. Автор рассматривает путь духовного противостояния цифрократии как возвращение к жизни по Слову.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.
В начале было Слово, а в конце будет цифра. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А вот Михаил Булгаков, автор «евангелия от сатаны» (то бишь – «Мастера и Маргариты»). Приводя воспоминания современников, Б. Соколов пишет: «…автор „Мастера и Маргариты“ недвусмысленно отвергает церковное христианство, загробную жизнь и мистику. Посмертное воздаяние заботит его лишь в виде непреходящей славы» [273] Соколов Б. Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты». – М.: Litres, 2017 (https://unotices.com/book.php?id=111804&page=104).
. Ю. Воробьевский так пишет о конце жизни Михаила Афанасьевича: «Перед смертью Булгаков ослеп и лишился речи. И словно чья-то чужая воля выдавила из него последние слова: „Чтобы помнили“. В них слышится лукавый шепот „царя над всеми сынами гордости“, демона посмертной славы» [274] Воробьевский Ю. Орден Иуды. Измена не отменяет победы. – М., 2009, с. 143.
.
Но, слава Богу, не всегда кончина писателя или поэта похожа на ту, какая была у Толстого, Вольтера, Горького или Булгакова. Есть немало случаев, когда последние слова писателей свидетельствуют об их раскаянии и о том, что в той, другой жизни, они наконец обретут свободу от своего «куратора». Можно полагать, что такие писатели даже в пору своей творческой активности понимали все риски творчества и пытались их избегать (хотя далеко не всегда это и удавалось). Наверное, эти писатели на протяжении своей творческой жизни помнили (или периодически вспоминали) евангельские слова: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37). И эти слова на протяжении жизни мучали их, приводили время от времени к слезам, покаяниям, заставляли рвать рукописи. Приведу три таких позитивных примера [275] Они заимствованы из книги: Игумения Феофила (Лепешинская). Рифмуется с радостью. Размышления о старости. – М.: Храм Святой Мученицы Татианы при МГУ, 2014.
.
Н. В. Гоголь (1809–1852), истерзанный врачами, которые пытались оживить его всеми новейшими средствами, кричал и отбивался. «Как сладко умирать… не мешайте… мне так хорошо» – шептал он, обессиленный, и требовал: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!»; когда-то он писал о длинной лестнице Бога: от неба до самой земли.
Впрочем, для понимания личности Гоголя нельзя ограничиться знакомством лишь с последними днями жизни писателя. Нужно знать с последних годах его жизни, которые демонстрировали напряженную внутреннюю борьбу, проходившую в душе Гоголя. Борьба была между Гоголем-христианином и Гоголем-писателем. О некоторых внешних проявлениях этой борьбы сегодня почитатели его творчества знают. Это и сжигание второго тома «Мертвых душ» (1845). Это и написание работы, совершенно не похожей на все предыдущие произведения писателя и получившей название «Избранные места из переписки с друзьями» (увидела свет в 1847 году). Это и поездка на Святую Землю к Гробу Господню (1848). Это и плотное общение писателя со своим духовником отцом Матфеем Константиновским (с 1849 года). Писатель почти полностью прекратил свое литературное творчество. Подолгу стал задумываться о смерти. Вот, например, Гоголь написал своему другу поэту Василию Жуковскому: «Пришло мне умирать… Скажи, старший товарищ, как умирать? Песни ли поэта искупают вины его? Неужели еще и проходя смертное испытание, необходимо лицедействовать и корчить из себя Орфея?» [276] Цит. по: Воробьевский Ю. Бедлам (Корабль дураков или ковчег спасения?). – М., 2014, с. 229.
Ю. Воробьевский, описывая эту внутреннюю борьбу писателя и его кончину, заключает: «Принесенный в жертву Гоголь-поэт, может быть, спас душу Гоголя-христианина» [277] Там же, с. 228.
.
А кстати, о поэте Василии Жуковском. Он ведь тоже многое переосмыслил на излете своей жизни. И в молодости и в апогее славы он, подобно многим другими талантам, полагал, что вдохновение имеет божественное происхождение. А вот в конце жизни он в этом стал сомневаться, ему небезосновательно стало казаться, что источник вдохновения может иметь противоположное происхождение. Он понял, что поэзия «нас часто гибельным образом обманывает на счет нас самих, и часто, часто мы ее светлую радугу, привидение ничтожное и быстро исчезающее, принимаем за твердый мост, ведущий с земли на небо. Под старость я не рассорился с поэзией, но не в ней вся правда; она только земная, блестящая риза правды». И еще: «…лгать себе не хочется. В поэтической жизни, сколь бы она ни имела блестящего, именно поэтому много лжи […] и эта ложь теряет весь свой мишурный блеск, когда поднесешь к ней (рано или поздно) лампаду христианства» [278] Веселовский А., Жуковский В. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999, с. 365.
.
Ф. М. Достоевский (1821–1881), придя в себя после кровотечения из легких (лопнула артерия), потребовал: «Немедленно священника!» После исповеди и Причастия он совершенно успокоился, благодарил жену за прожитые вместе годы, благословил детей, тихо спал всю ночь, утром сам продиктовал для газет бюллетень о своей болезни; через три часа его не стало. Он скончался в один день с Пушкиным, которому поклонялся, и так же, как лицо поэта, его лицо казалось одухотворенным и прекрасным; заря иной лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск.
В. В. Розанов (1856–1919) незадолго до кончины пережил великое горе, потеряв сына, и принял эту скорбь как расплату за некоторые свои сочинения. В болезни он со всеми примирился, всех благодарил, просил прощения, соборовался, несколько раз исповедовался, и причащался. В предсмертных письмах он называл себя «хрюнда, хрюнда, хрюнда», а подписывался «Васька дурак Розанов». Умирал тихо и спокойно, не метался, не стонал, т. к. ему на голову положили плат от раки преподобного Сергия. «Отчего вокруг меня такая радость, скажите? со мной происходят действительно чудеса…» – проговорил он в самый момент кончины; по лицу его разлилась удивительная улыбка, вспоминает дочь, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Отпевали Розанова священник Соловьев, о. Павел Флоренский и архимандрит Иларион, будущий архиепископ, священномученик.
Вывод из моих рассуждений таков: читайте прежде биографии писателей и поэтов, а потом уже решайте: читать или не читать их книги. И всегда помните слова Спасителя: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:18). А когда читаете биографию, обязательно обращайте внимание, какими были последние слова земного творчества писателя. Если это слова богохульные или вопли отчаяния, то лучше не читать. Книги таких «гениев» – неразбавленная цикута.
Если это были слова покаяния, то творчество такого писателя может быть интересно с точки зрения понимания того, как шла незримая брань между писателем и его «куратором». Нам это должно быть не только интересно, но и полезно. Ибо в наш безбожный век все мы в той или иной мере оказываемся зависимыми от этих «кураторов». И нам есть чему поучиться у таких писателей, в том числе на их ошибках. Это мои размышления, отнюдь не претендующие на абсолютную истину, адресованные читателям.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: