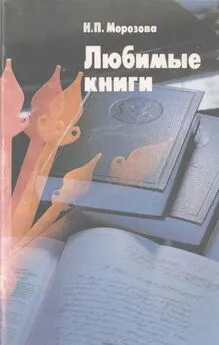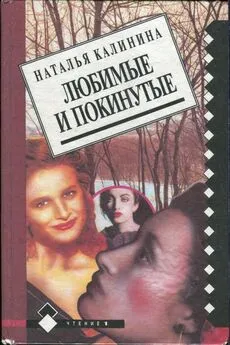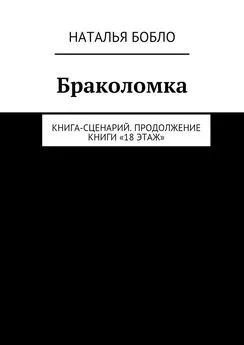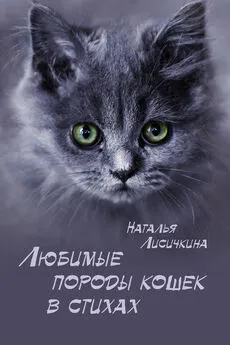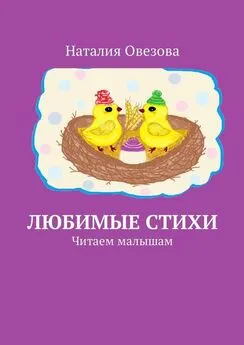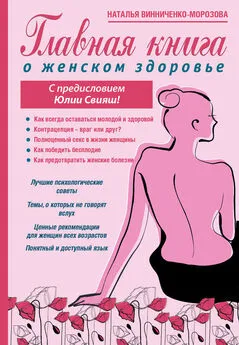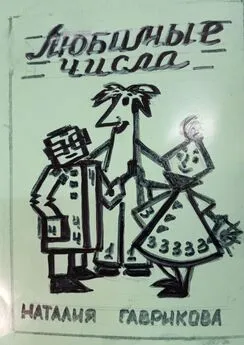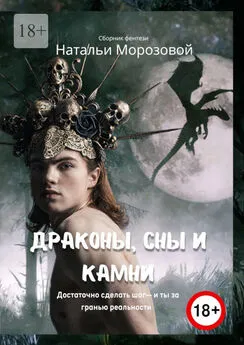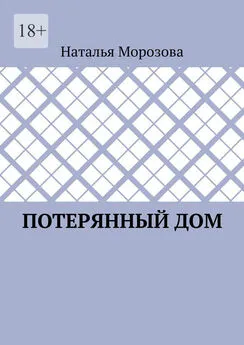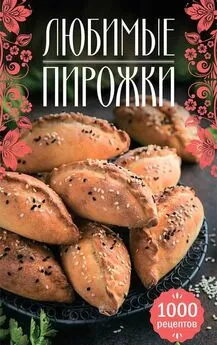Наталья Морозова - Любимые книги
- Название:Любимые книги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Морозова - Любимые книги краткое содержание
Н.П. Морозова – журналистка.
Книга рассчитана на массового читателя.
Любимые книги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не была исключением и пьеса Михаила Шатрова «Так победим!». Уже в печати появились отзывы на спектакль, уже прокатилась слава о невозможности достать билет, а… идти не хотелось – искала пьесу.
И вот, едва начала читать, как все в пьесе задышало и заговорило. Процесс привыкания, вживания в материал был завершен при первом же прочтении, а если уж совсем точно, еще… до чтения! Еще бы: прямо на глазах передо мной ожила моя боль, моя любовь, со страниц пьесы со мной заговорил мой любимый 45-й…
«Что сделаю я для людей?» – крикнул легендарный Данко и вырвал из своей груди пылающее сердце, осветившее людям дорогу к свету. Ленинское сердце вспыхнуло любовью к людям с юных лет и с тех пор горело и светило неустанно.
И вот теперь он, тяжелобольной, отдавший людям все, снова считал себя их должником, снова хотел светить. Но теперь это было во сто крат труднее. После первого же приступа болезни с новой силой в его мозгу вспыхнула мысль: «Что сделаю я для людей?» И вот – «Последние письма и статьи» – кровоточащее, пылающее любовью к людям сердце Ильича. Вот таким я вижу 45-й том.
Мне кажется, что таким увидел 45-й том и Михаил Шатров, показавший в пьесе «Так победим!» именно трагедию героя, не имеющего уже больше никакой возможности служить людям иначе, как подняв над головой свое окровавленное сердце.
В одном из газетных интервью драматург сказал: «„Так победим!“ – трагедия. Это не только наша трагедия, это трагедия вполне реального определенного человека» [37] Учительская газета, 1984, 6 ноября.
.
В чем же увидел М. Шатров трагедию? В неизбежности смерти? Нет, драматург отметает этот мотив небольшой ретроспективной сценой, когда в памяти Ильича всплывает островок из 1918 года – день подлого выстрела Каплан. Истекая кровью, Ильич говорит: «…Эка невидаль… да с каждым революционером это может случиться… ерундовина какая-то… подкузьмили мне руку… что ж делать, покушение – это профессиональная опасность политика…» [38] Шатров М . Так победим! Шесть пьес о Ленине. М., 1985, с. 201.
Да, мы знаем из целого ряда воспоминаний, в частности из очерка Горького, что Ленин именно так смотрел на покушение: идет, мол, большая драка, каждый воюет, как может. Ни один революционер не застрахован от вражеской пули. Ильич рассматривал это как одну из неизбежностей классовой борьбы и тогда, в 1918-м, эта вроде бы абстрактная неизбежность вонзилась в Ильича в виде вполне конкретных отравленных пуль. И теперь вот, в конце 1922 года, его скрутила смертельная болезнь, но и это тоже не было неожиданностью. Это – расплата за сверхчеловеческий труд, за тяготы изгнаний, за те же ранения, – в общем, для профессионального революционера это тоже дело понятное, неизбежное.
Может быть, трагедия в чрезмерности накала борьбы, которую долгие годы пришлось вести Ленину? Тоже нет. Конечно, вся жизнь Ленина была борьбой, но эта борьба составляла смысл его жизни, счастье его. Часто борьба бывала очень драматична, опасна для жизни, но по сути своей это была борьба не трагическая. Ленин боролся за революцию яростно и терпеливо, рывками и каждодневно, но всегда с подъемом, со страстью, с вдохновением. Это была борьба, закаляющая сердце и оттачивающая ум, придающая жизни ее высокий смысл.
Когда Ильич дрался с идейными противниками, он был спокоен, уверен, преисполнен решимостью бороться до конца и несгибаемой волей к победе. С блеском повергал он реакционное народничество («Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»), экономизм («Что делать?»), философский идеализм («Материализм и эмпириокритицизм»)… В этой борьбе было его счастье.
Но в жизни Ильича была и другая борьба… Вот теперь мы и подобрались к ответу на вопрос, в чем же трагедия жизни и смерти этого человека, которая и стала содержанием пьесы «Так победим!». Итак, была другая борьба. Вот она-то иссушала сердце и мозг, она лишала сна, разрушала нервную систему… Это была борьба против… своих!
Вообще, жизнь человека, стоящего намного выше своих современников, часто бывает окрашена в трагические тона. Такой человек видит дальше, он как бы пришел из будущего, но современникам трудно понять и принять его прозрения. Как часто творчество гения получает достойную оценку лишь у далеких потомков. Но если гениальные художники могут утешаться мыслью, что их поймет и оценит хотя бы потомство, то гениальный политик, общественный деятель ждать не может. Ему важны не оценка, не признание, а практическое воплощение его идей, причем не когда-то, а в определенный исторический момент.
Вот почему Ильичу всю жизнь приходилось драться за свои прозрения, которые часто наталкивались на непонимание даже своих же соратников. Брестский мир, нэп, национальный вопрос – кто может подсчитать, сколько здоровья, сколько лет жизни отняли у Ильича эти вот сражения! А ведь победа в каждом из них означала ни мало ни много, как вопрос жизни или смерти нашей страны. До конца ли понимаем мы сегодня, что для нас сделал этот человек? И откуда только у него бралась энергия не только повергать врагов, но и преодолевать сопротивление многих друзей? Понимаем ли мы, что его «Последние письма и статьи» – это и есть сердце, вырванное из груди?
Мне думается, что такая или очень близкая ей мысль вдохновляла Михаила Шатрова на создание пьесы «Так победим!».
Да, последние дни Ильича – большое горе для всех нас. Ведь умирал самый дорогой, самый любимый человек. Вот и 45-й том – он весь пропитан этой печалью. И пока дойдешь до той страшной записи на 717 странице, сколько раз придется споткнуться, вздрогнуть от такого, казалось бы, обычного слова – «последний». Страница 300: «Речь на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года» – последнее устное выступление перед массами. Страница 389: «Лучше меньше, да лучше» – последняя ленинская статья. Страница 716. 2 ноября. Ленин принимает делегацию рабочих Глуховской мануфактуры. Это – последняя его встреча с рабочими…
Обратимся еще раз к легенде о Данко. Помните, как трудно было Данко убедить людей идти за ним? Ну что делать, не видели они того, что видел он! А он видел. И не мог, не считал себя вправе не вывести людей к свету. Вырванное из груди сердце – это был его последний аргумент. За сердцем – пошли. И те кто поверил, и те, кто сомневался, – все пошли: нельзя не пойти за горящим сердцем! А сердце пылало и после гибели героя. Но люди хотя и вышли к свету, а все-таки побаивались сердца Данко: уж слишком ярко оно горело, слишком! А все, что слишком, людям непривычно, их пугает. И вы помните, конечно, как один осторожный человек наступил на горящее сердце Данко…
Да, видно, тут есть какой-то психологический барьер, мешающий понять до конца человека не просто выдающегося, а стоящего неизмеримо выше современников. В этом – трагедия гения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: