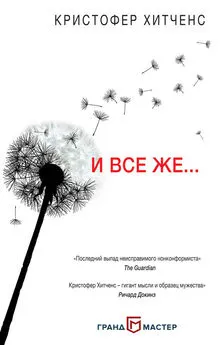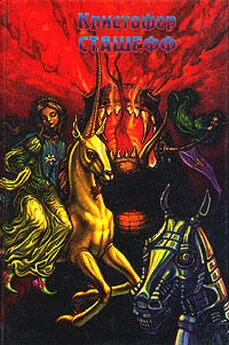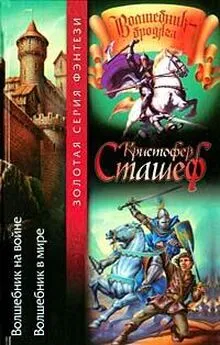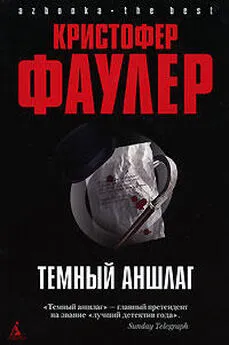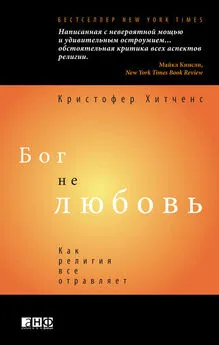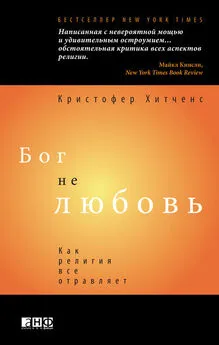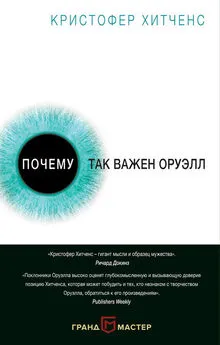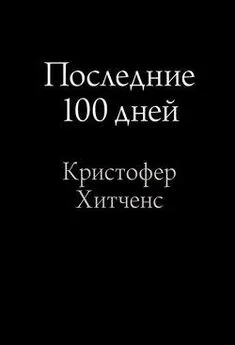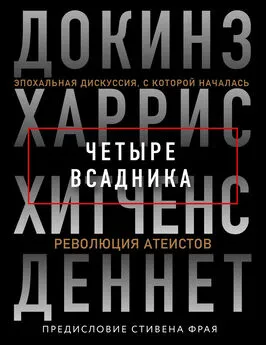Кристофер Хитченс - И все же…
- Название:И все же…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-089184-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кристофер Хитченс - И все же… краткое содержание
Книга Кристофера Хитченса «И все же…» обязательно найдет свое место в библиотеке истинного любителя современной интеллектуальной литературы!
И все же… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Поэтому Перикл представил народу множество грандиозных проектов сооружений и планов работ, чтобы остающееся в городе население имело право пользоваться общественными суммами нисколько не меньше граждан, находящихся во флоте, в гарнизонах, в походах. И правда, там, где в изобилии были материалы: камень, медь, слоновая кость, золото, черное дерево, кипарис; где были ремесленники, обрабатывающие эти материалы… Там эти работы распределяли, сеяли благосостояние во всяких, можно сказать, возрастах и способностях» [184] Перевод С. И. Соболевского. — Прим. перев.
.
Когда мы думаем об Афинах V века до н. э., мы в первую очередь вспоминаем о театре Еврипида и Софокла, философии и политических событиях — в первую очередь о демократических политических событиях, как, например, о неоднократном переизбрании Перикла, несмотря на все сетования, что он сорил деньгами. И это правда, что премьера «Антигоны» состоялась, когда Парфенон возводился, а «Медеи» — вскоре после завершения строительства храма. От драмы к философии: Сократ сам был помимо всего прочего каменотесом и скульптором, и представляется весьма вероятным, что и он принимал участие в возведении грандиозного здания. Таким образом, у Греции мы можем чему-то поучиться и в искусстве восстановления. Как писал об этом автор «Камней Афин» [ The Stones of Athens ] Р. Е. Уичерли:
«В каком-то смысле, Парфенон был созданием коллективным… Это был труд всего афинского народа, и не только потому, что сотни людей напрямую участвовали в его строительстве, но и потому, что в конечном счете именно народное собрание несло за него ответственность, утверждало, и санкционировало, и тщательно следило за расходованием каждой драхмы».
Я видел многие другие великие памятники античности: от Луксора, Карнакского храма и пирамид до Вавилона и развалин Большого Зимбабве, но их великолепие неизменно омрачает сознание того, что тяжелую работу делали рабы, а их возвели, чтобы показать, кто хозяин. Уникальность Парфенона в том, что, хотя и в Древней Греции тоже было рабство, этот шедевр представляет собой результат коллективного труда свободных людей. И весь пронизан светом и воздухом: «доступный», если хотите, а не подавляющий. Так что к правильности можно в порядке рабочей гипотезы добавить понятие «прав», как их впервые начали смутно формулировать греки эпохи Перикла.
Ни красота, ни симметрия Парфенона не избежали надругательств, искажений и увечий. Пять веков после рождения христианства Парфенон был закрыт и заброшен. Затем его «приспособили» под христианскую церковь, а после завоевания Византийской империи турками еще тысячу лет спустя — под мечеть, пристроив в юго-западном углу минарет. Также он веками служил турецкой армии для размещения гарнизона и арсенала, что в 1687 году во время нападения христиан-веницианцев на оттоманских турок привело к трагическому исходу, когда в результате взрыва порохового погреба зданию был нанесен колоссальный ущерб. Однако, возможно, самым ужасным стал нацистский флаг, развевавшийся во время немецкой оккупации над Акрополем. Однажды мне выпала честь обменяться рукопожатиями с Манолисом Глезосом, человеком, который влез наверх и сбросил свастику, подав тем самым сигал к началу восстания греков против Гитлера.
Ущерб, нанесенный зданию временем, империями и оккупантами прошлого, невосполним. Но есть одно осквернение, которое можно как минимум частично возместить. В начале XIX века посол Великобритании в Османской империи лорд Элгин послал на занятую турками территорию Греции бригаду, выпилившую и вывезшую примерно половину украшений Парфенона. Как и все древнегреческое, они представляют собой самое роскошное и прекрасное сокровище скульптуры в истории человечества. Под руководством художественного гения Фидия храм украсили двумя массивными фронтонами с фигурами Афины Паллады, Посейдона и богов солнца и луны. Ниже шел ряд из 92 панелей с горельефами (или метопами), на которых были представлены мифические и исторические сражения. Самым филигранным был фриз, барельефы которого представляли ежегодную процессию Панафинеи из богов, людей и животных: 192 всадника и воина вспомогательных войск — точное число павших в битве при Марафоне героев города по преданию. Эксперты расходятся во мнениях, какая именно история здесь рассказана, но фриз явственно представлял собой непрерывное повествование. Однако половина рассказа до сих пор находится в Британском музее в Лондоне, проданная в 1816 году Элгином английскому правительству по сильно заниженной цене в 2,2 миллиона долларов в пересчете на современные деньги, чтобы расплатиться с долгами. (Укрась он скульптурами, как первоначально замышлял, свое поместье Брумхолл в родной дождливой Шотландии, их бы никто никогда больше не увидел.)
С тех пор, как лорд Байрон обрушился с едкими нападками на колониальный грабеж Элгина сначала в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» (1812), а потом и в «Проклятии Минервы» (1815), продолжается острый спор о законности сделки Британского музея. Я написал об этом споре целую книгу и не стану утомлять вас всеми подробностями, а просто приведу аналогию: это все равно, как если бы во времена Наполеоновских войн надвое разрезали «Мону Лизу», а половины купили разные музеи, скажем, Санкт-Петербурга и Лиссабона, и никто не пожелал бы посмотреть, как картина могла бы выглядеть, если их соединить. Если вы думаете, что я беру через край, смотрите сами: тело богини Ириды сегодня находится в Лондоне, а голова — в Афинах. Передняя часть туловища Посейдона — в Лондоне, и задняя часть — в Афинах. И так далее. Это гротеск.
В ответ на эти, по сути, эстетические возражения у британского истеблишмента три контраргумента. Во-первых, возвращение скульптур может создать «прецедент», который опустошил бы мир музейных коллекций. Во-вторых, в Лондоне скульптуры могут увидеть больше людей. В-третьих, грекам негде их выставлять. Первый легко опровергнуть: греки не хотят себе больше ничего возвращать и на самом деле надеются, что древнегреческая скульптура будет выставляться в других странах не меньше, а больше. И нет такого суда или органа власти, куда можно было бы обратиться с иском, чтобы он создал подобный прецедент. (В любом случае, и кто мог бы с подобным иском обратиться? Ацтеки? Вавилоняне? Хетты? Греческий случай особый — абсолютно индивидуальный и уникальный.) И второе: муж Мелины Меркури, ныне покойный кинорежиссер и сценарист Жюль Дассен, в 2000 году заявил британской парламентской комиссии, что с точки зрения массовости аудитории скульптуры следовало бы выставить в Пекине. После того как мы покончили с этими пустяковыми и неинтересными возражениями, перед нами осталось третье, и серьезное, которое и привело меня в Афины. Где подходящее музейное пространство для экспонирования сокровищ?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: