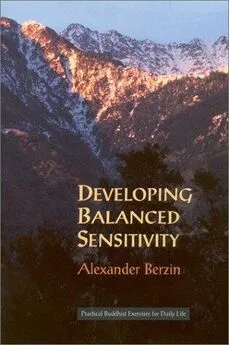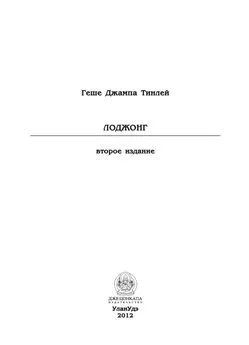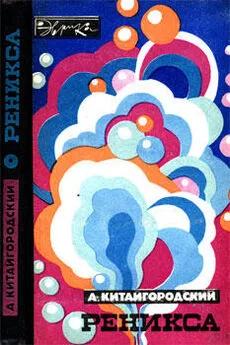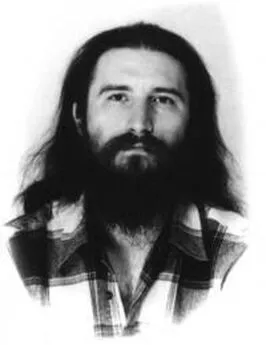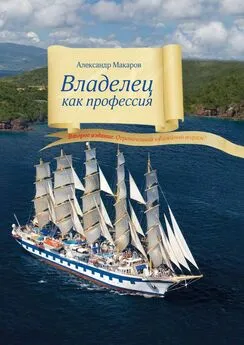Александр Тарасов - «Второе издание капитализма» в России
- Название:«Второе издание капитализма» в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Тарасов - «Второе издание капитализма» в России краткое содержание
«Второе издание капитализма» в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Основа этой системы была заложена во времена насильственной коллективизации – и хотя выбранный тогда путь оказался вполне контрреволюционным (не американским и не прусским, а еще более реакционным – английским, только в качестве лендлорда выступило государство), стратегическое направление – крупное индустриальное хозяйство – было единственно верным в природно-климатических условиях России.
Но при «втором издании капитализма» эта система была разрушена – формально потому, что не справилась с резко выросшим уровнем потребления населения. Сегодня уровень потребления радикально понизился, однако существующее сельское хозяйство не способно обеспечить и его, поскольку значительная часть агропроизводства просто ликвидирована. Если СССР в основном обеспечивал себя продовольствием (напомню, что в Советском Союзе «периода застоя» был не импорт зерна вообще, а импорт фуражного зерна , что неизбежно в столь явно патологических условиях, когда крестьяне догадывались кормить скот готовыми хлебо-булочными изделиями!), то сегодня Россия не способна прокормить себя и зависит от импорта.
В формах хозяйствования на селе наблюдается фантастическая неразбериха. Часть колхозов и совхозов (теперь – госхозов) уцелела и функционирует. Часть – превращена в АО и либо погибла, либо стала типичным капиталистическим производством. Значительная часть колхозов была распущена, и колхозникам раздали их паи – как правило, именно эта часть населения практически выпала из реального рыночного оборота и вернулась к самообеспечению, едва ли не к натуральному хозяйству. Значительная часть сельскохозяйственных земель мошенническим путем выведена из хозяйственного оборота. Фермерские хозяйства вновь, как и при «первом издании капитализма», оказались рентабельны только на Юге, во всех остальных местах они медленно умирают [40] В 1999/2000 г. 27 тыс. уцелевших колхозов и госхозов дали 54 % сельскохозяйственной продукции, а 285 тыс. фермерских хозяйств – лишь 2 % ( Хорев Б.С. Указ. соч. С. 21).
.
Столь же медленно, но уверенно в сельском хозяйстве России утверждаются новые латифундии, только владельцами латифундий становятся банки и ФПГ, скупающие пахотные земли и прочие сельхозугодья (в том числе и не эксплуатируя их, «про запас»).
Однако этот новый латифундист сталкивается с ситуацией, в некоторых отношениях еще более неблагоприятной для развития капитализма, чем в конце XIX – начале XX века. В значительном количестве областей (в первую очередь в Нечерноземье) наблюдается одна и та же картина: заброшенные заросшие поля, разрушенные и разграбленные фермы, кладбища ржавеющей техники, вымирающие деревни. То есть «первое издание капитализма» стояло перед необходимостью реформировать сельское хозяйство, а «второе» – в значительной степени создавать его заново. Прежде существовало аграрное перенаселение, избыток рабочей силы – сегодня наблюдается запустение сел, острый дефицит рабочей силы. Прежде в Европейской России наблюдалась нехватка земли (пресловутое малоземелье) – теперь избыток . Раньше владелец средств производства имел дело с неграмотным, неприхотливым, согласным на низкий доход и лишения работником – сегодня с «разложенным» «периодом застоя» сельским жителем, вовсе не стремящимся «горбатиться за копейку».
То есть «первое издание» российского капитализма сталкивалось с селом развивавшимся, но развивавшимся чудовищно медленно (Ленин, как известно, явно переоценил степень развития капитализма на селе в своем знаменитом «Развитии капитализма в России» – и после Революции 1905 года был вынужден это признать и скорректировать позицию). Сегодня же российский капитализм имеет дело с частично законсервировавшимся, а частично деградирующим и вымирающим селом, не способным прокормить страну.
В двух отношениях сегодняшняя ситуация более удобна для капитализма. Не надо долго идти к крупному капиталистическому производству на селе: крупное хозяйство было создано еще при суперэтатизме. Но возникает вопрос рабочих рук, профессиональных кадров и инфраструктуры. Никто до сих пор не подсчитал, хватит ли покупательной способности внутреннего потребителя на то, чтобы оплатить такое тотальное перевооружение сельского хозяйства. А если нет – можно ли найти внешние рынки сбыта и, следовательно, внешние заимствования.
Вторым плюсом для сегодняшнего капитализма является отсутствие на селе социальной войны. Социальную войну против капиталиста, как и помещика, могла вести только численно мощная и сильная верой в свою правоту община. Разрозненное, индивидуализированное, деградирующее сельское население, разумеется, не способно на активное массовое сопротивление. Однако оно широко прибегает сегодня к сопротивлению индивидуальному и пассивному (то есть спивается). Еще неизвестно, что хуже.
Можно привести еще много таких примеров из области экономики. Ограничусь одним : налоговая политика . Хорошо известно, что в дореволюционной капиталистической России прямые налоги были малозначительной статьей государственного бюджета: в 1900 году они принесли казне 7 % доходов, в 1907 – 7,8 %, в 1913 – 7,9 % [41] История России. С начала XVIII до конца XIX века. С. 500.
. Подоходного налога не было вообще! [42] В 1916 г. в условиях финансовой катастрофы военного времени закон о подоходном налоге был принят, но в действие не вступил, так как грянула Февральская революция.
А доходы государственного бюджета в основном составлялись из трех источников: из доходов, принесенных казенными имуществами и капиталами; из «правительственных регалий», в первую очередь винной монополии (в 1913 году «пьяные деньги» составили 899,3 млн рублей из 1024,9 млн рублей «правительственных регалий») и из косвенных налогов (в первую очередь таможенных сборов) – причем в 1906 году доход от винной монополии уверенно превысил даже доходы от казенных имуществ (697,5 млн рублей против 602,6 млн, что и породило хлесткое клеймо «пьяный бюджет»). Но даже и косвенные налоги (с таможенными сборами вместе взятые) никогда не давали не то что половины, а даже четверти доходов бюджета (например, в 1906 году – 494,2 млн рублей из общего дохода в 2272,7 млн, в 1913 – 708,1 млн из 3417,4 млн рублей) [43] См.: Статистический ежегодник на 1914. СПб., 1914. С. 356–358, 361, 364–369.
.
Все это как небо от земли отличается от налоговой политики правительств постсоветской России, рассматривающих население страны как одну большую дойную корову. Конечно, сегодня дело не доходит, в отличие от, скажем, 1994 года, до того, чтобы предприятия облагались налогами, съедавшими от 80 до 100 % (!) прибыли (тогда это делалось, чтобы искусственно обанкротить предприятия и скупить их по дешевке в ходе кампании по приватизации) [44] См.: Тарасов А.Н. Провокация. – Постскриптум из 1994-го. М., 1994. С. 79–80.
, но все же репутация «государственного рэкетира» у наших налоговых органов – вполне заслуженная.
Интервал:
Закладка: