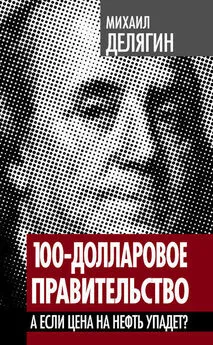Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Название:Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри... краткое содержание
Империя в прыжке. Китай изнутри... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все фантастическое разнообразие континентального Китая с экономической точки зрения весьма жестко делится на прибрежные и внутренние регионы, граница между которыми проходит примерно в полутора сотнях километров от моря.
Исторически (по крайней мере, со времен его «вскрытия» Западом) вовлечение Китая в мировую торговлю ведет к немедленному расцвету прибрежного региона за счет постепенного впадения в запустение внутренней части страны, превращаемой в источник ресурсов для успешно развивающихся прибрежных районов и высасываемого ими.
Противоречие между богатым и развитым побережьем, с одной стороны, и бедными стагнирующими внутренними районами, с другой, красной нитью проходит через всю новую историю Китая.
Коммунисты первоначально пытались развивать революционное движение в наиболее развитой прибрежной части страны, опираясь на портовый и нарождающийся промышленный пролетариат, сосредоточенный в центрах деловой активности.
Однако там же были наиболее сильны и колониалисты, и компрадорская буржуазия, что проявилось в жестоком истреблении коммунистов в Шанхае в 1927 году.
После этого Мао Цзэдун добился отказа от коминтерновского левацкого начетничества и переориентации коммунистов на поддержку крестьянства и реализацию его интересов. Центр тяжести революционной борьбы был перенесен во внутренний Китай, — и победа коммунистов стала, в том числе, и его исторической победой над побережьем.
Новый Китай, создававшийся в отрыве от морской торговли (советская помощь поступала в основном по суше, и новая промышленная база Китая создавалась, прежде всего, в Маньчжурии, на основе созданной японцами индустрии), был освобожден от противостояния между прибрежными и внутренними районами, — но ценой крайней бедности и постоянных жестоких социальных экспериментов.
Прошедший горнило длительной гражданской войны, ведшейся в том числе внутренним Китаем против прибрежного, Дэн Сяопин был, насколько можно судить, патриотом прежде всего внутренних регионов.
На первом этапе реформ специальные экономические зоны создавались на побережье для привлечения иностранных технологий и капитала лишь как плацдарм для последующей модернизации внутреннего Китая.
Однако необходимая для этого переброска ресурсов не удалась. Даже робкая попытка приступить к ней в 80-е годы привели к противодействию, с одной стороны, обогатившихся прибрежных регионов, не желавших расставаться со своим богатством ради развития внутренней части Китая, а с другой — идейных маоистов (в первую очередь из этой его части), страшащихся развития рынка как пути к буржуазному перерождению партии и государства.
Это противодействие достигло пика во время событий на площади Тяньаньмэнь, в ходе которых реформаторское руководство Дэн Сяопина оказалось между молотом и наковальней: против него решительно выступили как сторонники, так и противники реформ.
Символично, что кризис был преодолен именно благодаря группе Цзян Цзэминя, затем выросшей в хрестоматийных «шанхайских жирных котов»: прибрежные регионы спасли государство, продиктовав ему в качестве платы за это принципиальное изменение вектора развития страны.
После Тяньаньмэнь прибрежные регионы стали самостоятельной ценностью: они развивались уже не для последующей передачи наработанных ресурсов остальному Китаю, а в своих собственных интересах, а внутренний Китай, как и при прошлых режимах, стал их ресурсным придатком, в первую очередь — источником дешевой, дисциплинированной и трудолюбивой рабочей силы.
Не случайно попытки перенести центр приложения иностранных инвестиций во внутренние регионы, как правило, проваливались, несмотря на усилия по созданию инфраструктуры и правового обеспечения. И дело не только в силе привычки, обычаях и культурных отличиях: прибрежные регионы не хотели делиться инвестициями, — этим источником богатств, — с остальным Китаем, а обязанное им спасением государство не могло принудить их к этому.
Однако концентрация развития в прибрежных регионах, хоть и привела к колоссальному перекосу, не вызвала недовольства: энергичные и предприимчивые люди, как и в целом ориентированные прежде всего на зарабатывание денег, сравнительно легко могли перебраться туда и найти себе применение. В различных регионах Китая сложились различные социально-экономические модели, и носители разных социальных темпераментов, как было отмечено выше, могли найти себе место, наиболее соответствующее их склонностям и представлениям о справедливости (как это имело и имеет место в других больших и внутренне дифференцированных экономиках — США, Евросоюзе, бывшем Советском Союзе и нынешней России).
Китай был в целом доволен — и не заметил, как незаметно для себя разделился на две, по сути дела, разных страны. Еще в 80-е разрыв между прибрежными и внутренними регионами был сравнительно невелик: экономика была сравнительно однородной, и ею можно было управлять, как единым целым.
В результате бурного развития 90-х и особенно 2000-х, несмотря на формирование общенациональной информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, две части Китая разошлись так далеко, что объективно требуют разных принципов и механизмов управления. На одни и те же управленческие импульсы они будут реагировать совершенно по-разному.
Это внутреннее разделение отнюдь не означает неизбежности распада: в конце концов, принципиальное различие органов организма не отрицает, но, напротив, подчеркивает и обеспечивает его целостность.
Однако глубина различий между «двумя Китаями» обеспечивает и коренное различие их интересов, являющееся одним из скрытых движущих противоречий современной китайской политики.
Сейчас, после 35 лет рыночных преобразований, сглаживание разрыва между прибрежным и внутренним Китаем остается одной из важнейших задач государства. Наряду с поддержанием социальной стабильности вынужденное стремление к территориальной сбалансированности жестко ограничивает возможности извлечения прибыли, повышения эффективности и в целом развития рыночных отношений.
Стремление к социальной справедливости и попытка переориентации с экспорта на потребление населения означает неминуемый возврат к курсу раннего Дэн Сяопина, до его призыва «идти вовне». Вне зависимости от желания тех или иных политических лидеров и даже целых группировок, вынужденным, объективно обусловленным приоритетом Китая становится развитие его внутренних районов. «Нагулявшие жир», переинвестированные, богатые и развитые прибрежные районы становятся для них всего лишь источником капитала и технологий: из цели они превращаются всего лишь в ресурс нового этапа развития страны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: