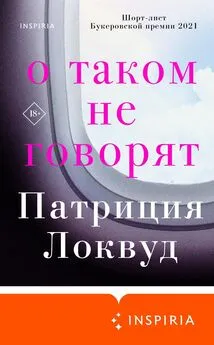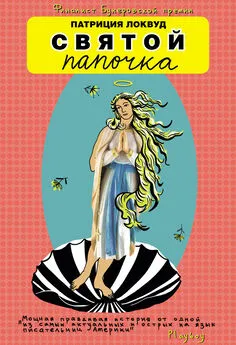Дуглас Локвуд - Я — абориген
- Название:Я — абориген
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Главная редакция восточной литературы
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дуглас Локвуд - Я — абориген краткое содержание
Я — абориген - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мой дядя по линии матери — Гардигарди — обязан был поддерживать меня не только при распределении добычи. Я мог, не спрашивая, взять буквально любую его вещь — лодку, копье, бумеранг… Они принадлежали ему, а следовательно, и мне.
Этот закон чрезвычайно осложнил жизнь художника из племени аранда — Альберта Наматжиры [17] Альберт Наматжира — всемирно известный художник из центральноавстралийского племени аранда. В прошлом простой погонщик верблюдов, он научился искусству акварельной живописи у белого художника Рекса Баттерби и стал не только замечательным живописцем сам, но и основал школу живописцев-аборигенов. Австралийское правительство было вынуждено в конце концов уравнять Наматжиру в правах с белым населением страны и даровать ему те права, которых лишены другие аборигены. К их числу относилось и употребление алкогольных напитков. Как человек, всеми корнями связанный со своим народом, с его обычаями, традициями и культурой, Наматжира не мог не делиться с соплеменниками всем, что имел сам, и должен был поплатиться за это тюремным заключением. Закон белого человека вступил в противоречие с законом его собственного народа — и Наматжира отдал предпочтение последнему. Дело Альберта Наматжиры вызвало громкий отклик в Австралии и других странах. Люди, понимающие, что Наматжира является в конечном счете жертвой расовой дискриминации, требовали оправдать его. Несмотря на это, он был осужден и выслан в отдаленную резервацию, где вскоре умер. В трагической судьбе Наматжиры повинны, конечно, не его соплеменники, а несправедливые законы страны, в которой одни люди пользуются всеми человеческими и гражданскими правами, а другие — бесправны.
. Он оказался богатым дядюшкой значительно большего числа аборигенов, чем предполагал. Племянники его были совершенно взрослыми людьми и сами имели многочисленное потомство, которое им в свою очередь приходилось поддерживать. В результате сам Наматжира превратился в некий банк с неограниченным кредитом, этакое утопическое предприятие, из которого можно было брать сколько угодно, ничего не вкладывая взамен. Большая часть этих прихлебателей была связана с художником весьма отдаленным кровным родством, но тем не менее он всех их кормил и поил.
Прежде всего племянники потребовали, чтобы Наматжира купил им грузовую машину в общее пользование. Ни у одного аборигена не было грузовика, и аранда загорелись этой идеей. Им хотелось владеть секретом движущей силы, и к тому же четыре колеса значительно быстрее, чем две ноги, покрывали расстояние в восемьдесят миль, отделявшее Германсбургскую миссию, где они жили, от Алис-Спрингс, где они собирались. Кроме того, грузовик придавал аранда огромный престиж в глазах соседей, которые их посещали или — что чаще — которым они сами наносили визиты.
Каждый из аранда изучил генеалогическое древо семейства Наматжиры до самых глубоких корней, ибо знал, что, доказав свое хотя бы самое отдаленное родство с художником, сможет присоединиться к его свите.
В 1050 году Альберт зарабатывал тысячу фунтов в год. Через пять лет его доход возрос до трех тысяч пятисот фунтов. В 1959 году только продажа картин принесла ему фантастическую сумму в семь тысяч фунтов, не считая отчислений за право репродукции.
Тем не менее Наматжира умер без гроша в кармане. Хищные соплеменники не только выклянчили у него последний шиллинг, но по сути дела даже засадили его за решетку: по их настоянию он делился с ними спиртными напитками. Наматжира имел права гражданства и мог поэтому употреблять алкогольные напитки, но его сородичам, находившимся под опекой государства, это было запрещено. Тот, кто давал спиртное аборигенам, наказывался тюремным заключением сроком по крайней мере на полгода. Альберт не мог не пить со своими родичами. Они получили то, что хотели, а он попал в тюрьму. Такой приговор вынес ему суд белого человека.
Я рассказал эту историю только для того, чтобы показать, в каком невыгодном положении находятся дядья у аборигенов.
Мой дядя Гардигарди подчинялся тому же закону, что и Наматжира. Действие закона распространялось, конечно, и на моего отца. Того, в свою очередь, бессовестно эксплуатировали его племянники.
Принцип дележа добычи не касался змей. Охотник, поймавший змею, имел право один съесть ее, если, конечно, она не была его табу. Фактически змей почти всегда отдавали старым людям, которые уже не в состоянии были жевать жесткое мясо кенгуру.
Змея считалась «мягкой пищей», но, если ее не было, старики отбивали о камень мясо кенгуру. Иногда его пережевывали ближайшие родственники, так что старикам оставалось только проглотить. Что за радость от такой еды! Не больше, чем от витаминов в таблетках.
Мой отец вместе с другими пятьюдесятью аборигенами работал в миссии, но никогда не знал, сколько времени еще продлится его работа и когда мы снова будем вынуждены добывать пропитание только охотой. Поэтому мы старались не разучиться метать копья. Каждую субботу ходили охотиться на кенгуру и собирали корни лилий в заводях. Обычно мы ничего не ели, пока не убивали добычу, что случалось не так уж часто. Нет на земле человека голоднее, чем чернокожий охотник. Его глаз видит лучше, а копья попадают точнее, если он знает, что промах лишит его пищи.
Детство у меня было веселое, хотя мои дети уже не захотели бы так жить. Одной из наших излюбленных забав была игра в лошадки. Недаром миссия имела большие стада, а мой отец был лучшим гуртовщиком.
Из камней, палок, обрывков веревки или проволоки мы мастерили игрушечные загоны. Одни мальчики были лошадьми, другие — восседавшие на их спинах — пастухами, третьи изображали телят. «Пастухи» связывали «телят», опрокидывали наземь и наносили песком, смешанным со смолой, знак ОТС — клеймо нашей миссии, даже «подрезали хвосты» и «кастрировали» их. «Телята» жалобно мычали.
Мы сражались игрушечными копьями, концы которых были обернуты тряпками, чтобы при ударе не поранить «врага». Мальчик, «пронзенный» копьем, должен был упасть. К нему подбегали девочки и оплакивали своего погибшего брата. Это единственная роль, которую им доверяли. Юные аборигены, очевидно, относятся к девочкам с большим презрением, чем белые мальчики. Девочек в игру не принимали, им только милостиво разрешали оплакивать павших. Это вполне соответствовало их положению в жизни.
Мы сражались также с помощью бумерангов и нулла-нулла. По правилам игры не следовало причинять противнику боль, но мальчикам, как известно, свойственно увлекаться. Сначала мы обменивались легкими ударами, потом один кричал, что его стукнули сильнее, чем разрешается, и в свою очередь отпускал здоровую затрещину, а противник в отместку размахивался изо всех сил. Серьезно пострадавший получал компенсацию в соответствии с той же системой возмездия, которую практиковали взрослые. Обидчик отдавал ему свою лепешку или тарелку риса, то есть оставался голоден, тогда как его противник наедался до отвала. При особо серьезном и к тому же предумышленном ранении виновник мог поплатиться ценной вещью, например копьем для охоты на рыб, изготовленным его отцом. Расставаться с копьем не хотелось. Но что было делать? Пострадавший мог пожаловаться отцу товарища, что его сын, Вайпулданья, то есть я, ранил его до крови. Я был согласен на любые лишения, лишь бы избежать последствий такой жалобы: основательной порки палкой, которая ранила гордость ничуть не меньше, чем тело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
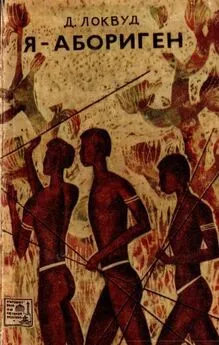


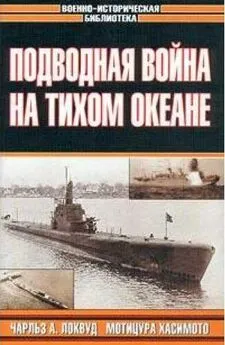
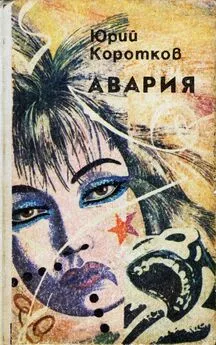
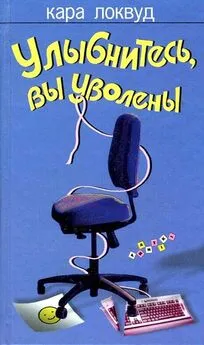
![Ингерсол Локвуд - Невероятное подземное путешествие барона Трампа [litres]](/books/1063108/ingersol-lokvud-neveroyatnoe-podzemnoe-puteshestvie.webp)