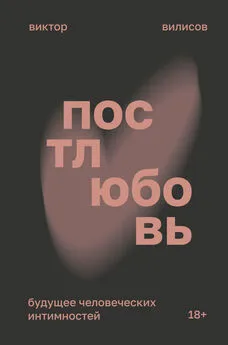Виктор Вилисов - Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres]
- Название:Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-111460-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Вилисов - Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres] краткое содержание
Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Послевоенный европейский модернизм, оправившись от произошедшего, подошёл к опере с полным осознанием того, что это полностью скомпрометировавший себя жанр. Как тематически, из-за понятных исторических ассоциаций, так и в плане художественной формы в прежнем виде оперой было невозможно больше пользоваться. В своём эссе [14] Till, Nicholas (2006) Investigating the Entrails: Post-Operatic Music Theatre in Europe. In: Ridout, N. and Kelleher, J. (eds.) Contemporary Theatres in Europe: A Critical Companion. Routledge, pp. 34–46.
о постоперном музыкальном театре в Европе профессор Николас Тилл выделяет четыре тенденции или художественные стратегии, которые применялись в этот период в работе с музыкальным материалом авангардными композиторами и художниками вообще. Первая заключалась в полном отказе от оперного наследия. Такие композиторы как Пьер Булез манифестировали своё желание начать абсолютно с чистого листа, поставить под сомнение вообще всё, стартовать с нулевого градуса письма. В более профанном смысле эта стратегия нашла выражение, например, в деятельности Виланда Вагнера, своим способом режиссуры предпринимавшего попытку очистить традицию своего деда от компрометирующего исторического и мифологического контекста. Вторая стратегия состояла в попытке либерализации оперы без отказа от её базовых средств выразительности и её формы. Такие композиторы, как Дьёрдь Лигети или Алоис Циммерман и их современники тематизировали в опере левые идеи, а также идеи модернизма и гуманизма. Третья стратегия, по мнению Тилла, заключается в переносе оперной эстетики и риторики в другие типы медиа – прежде всего в кинематограф. Принимаясь за разговор о фашизме или нацизме, некоторые итальянские и немецкие режиссёры – Висконти, Бертолуччи, Феллини, Херцог, Фассбиндер, Клуге и другие – как бы находят ресурсы для переизобретения кинематографа из духа театра и музыки. Наконец, четвёртая стратегия – и она наиболее интересна в контексте нашего разговора – заключается в изобретении постоперного типа музыкального театра, – такого же синтетического, как и сама опера, но основывающегося на новых отношениях с пространством, театром и языком, а также значительную часть своих новаций обнаруживающего в перформативном повороте, случившемся в 60-х годах. Именно эта стратегия стала наиболее продуктивной в движении театра – в том числе и музыкального – вперёд, она заслуживает более подробного разговора.
В те же шестидесятые Теодор Адорно сформулировал, что опера это «опустошённая форма искусства, которая не в курсе, что она умерла». Тем не менее классическую оперу как жанр до сих пор не удалось полностью элиминировать. Будучи малоподвижным феноменом сама по себе, она – занимая важное для публики место на театральном ландшафте – вносит значительную долю малоподвижности в весь театр целиком. Известный аппетит на финансовые ресурсы и, как правило, бюджетный источник их поступления плотно инкорпорирует оперу в экономическую систему культурного производства, откуда сковырнуть её не представляется возможным. Всё же чувствуя неизбежную потребность в демократизации, продвинутые интенданты оперных театров работают с тем, что есть: выводят оперу на новые пространства – в церкви, метро или производственные цеха, а под крышами государственных театров-монстров развивают современную оперную режиссуру. В этой главе нас интересуют два типа музыкального театра – конвенциональная опера, обёрнутая в современный тип режиссуры, и постоперный театр, который оперу напоминает только отдалённо или не напоминает вообще. И тот, и тот интересны по-своему.
Эпатирование буржуа: как радикальная режиссура настигает оперные дома
Что увидели зрители бельгийского оперного театра La Monnaie 27 июня 2014 года? Пространство через метр от авансцены было отгорожено проекционной поверхностью, по центру просцениума стоял стул, на котором лицом к залу сидела девушка. С краю справа стоял некий тумбообразный аппарат, похожий на серверный шкаф – на нём мигали красные, синие, жёлтые и зелёные лампочки, – трансмиттер цифрового сигнала, в контексте спектакля напоминающий передатчик данных о состоянии здоровья пациентки Элс, которая в это время лежала в реабилитационном госпитале Инкендаал. Первая часть истории этой девушки – от рождения до впадения в псевдокому – рассказывается очередью из коротких предложений белым текстом на чёрном фоне. Всю увертюру исполнительница сидит на стуле, на пятой минуте к ней выносят микрофон (очень крупный микрофон – и это в опере, где обычно если и используют подзвучку, то через малозаметные радиомикрофоны), и как только вступает хор, титры сообщают, что в настоящий момент Элс слушает аудио этой постановки у себя в палате. На 28 минуте титры меняют цвет на белый, а фоном стартует видеозапись из машины – видеооператор специально для спектакля совместно с мужем Элс Даниэлем проделывает путь, который он ежедневно совершает от работы до её палаты. На фоне этого видео рассказывается о ежедневной жизни Элс в госпитале – её процедурах и распорядке дня, о том, какой способ коммуникации они выработали с мужем: в основном она подаёт знаки глазами, но иногда они используют доску с алфавитом, и Элс моргает, если Даниэль указывает на нужную букву, – так составляются слова и предложения. Ещё через полчаса видео сменяется на чистый белый фон, который буквально через минуту обрывается в темноту. Здесь – как это часто в спектаклях Кастеллуччи происходит, резко меняется регистр визуального и тематического – от жизни реальной спектакль обращается к материям художественным: сначала появляется Амур с зелёной неоновой лампой, освещающей часть пространства. Затем она гаснет и медленно световые пятна обнаруживают за прозрачным занавесом кусты, деревья, появляется проекция с луной на фоне неба, в ёмкости с настоящей водой, замаскированной под пруд, плещется обнажённая женщина. Этот оазис стабилизируется буквально на десять минут, а затем видео снова возвращает зрителей в палату к Элс, где через некоторое время рука – судя по всему, её мужа – снимает ей наушники и гладит по лбу. Последнее, что видео фиксирует, – её бегающие зрачки и учащённое дыхание.
Чего же в этой постановке неконвенционального на формальном уровне? Во-первых, Ромео Кастеллуччи работает с эстетикой отсутствия: хор скрыт, его не показывают зрителям. Восемьдесят процентов времени на сцене находится одна исполнительница в центре, причём вся её выразительность ограничивается мимикой – она не перемещается по сцене, не взаимодействует с декорациями, не всплескивает руками и не падает истерически на пол. В глаза бросается отсутствие аффектированной манеры игры, плотно увязанной в обывательском сознании именно с оперой. Во-вторых, это уникальный пример спектакля, где параллельно с историей, разворачивающейся в оперном либретто и на сцене, существует ещё одна история, которая разворачивается частично в зале, а частично в 14 километрах от места показа. Сам по себе Ромео Кастеллуччи – экстремальный пример художника-визионера, настолько же экстремальна и идея этой постановки «Орфея». Нельзя сказать, что увязывание оперы с актуальными событиями – это что-то непривычное для современной режиссуры. Следуя принципу осовременивания и интерпретации композиторского материала, многие режиссёры приплетают в свои спектакли события или недавней истории, используя традиционный уже приём переноса действия во времени, или совсем актуального настоящего, в хорошем смысле превращая оперу в газету. Безусловно, есть и примеры вкрапления личной человеческой истории в оперы, не всегда это истории людей медийных или вообще известных. Но то, что делает Кастеллуччи, выводит реальность в театре, причём реальность пограничную, на какой-то новый уровень – она присутствует там в онлайн-режиме. Кажется, следующим по уровню эффекта шагом было бы привезти Элс в здание театра, но это был бы шаг против творческого метода Кастеллуччи – в его типе театра важное место занимают технологии. Таким образом, это ещё и поразительный пример использования новых медиа в театре: история, происходящая на видео, имеет связь и местами перекрывает историю, происходящую в зале. Реальная трагедия Элс значительно мощнее и ближе слушателям, чем пение со сцены; можно ощутимо чувствовать, как история на видео влияет и на солистов – они тоже в каком-то смысле превращаются в зрителей. Кастеллуччи устанавливает очень сложную взаимозависимость между всеми участниками этого процесса: зрителями в зале, Элс – которая является одновременно и слушателем оперы, и частью её истории, и солистами – которые находятся в таком же амбивалентном положении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктор Вилисов - Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres]](/books/1068564/viktor-vilisov-nas-vseh-toshnit-kak-teatr-stal-sov.webp)

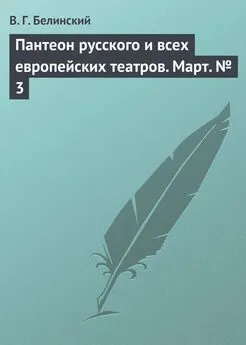
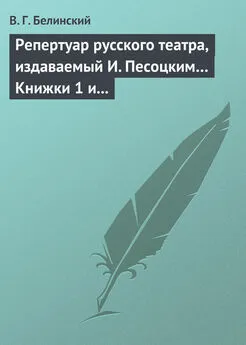

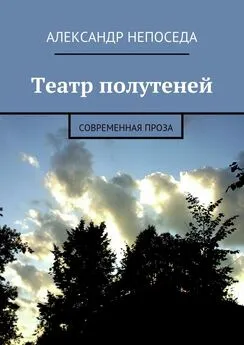
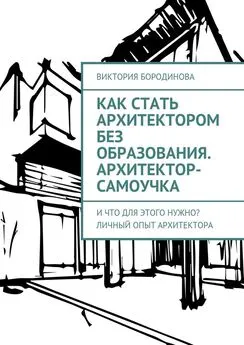
![Александр Милкус - Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1057298/aleksandr-milkus-kak-my-perestraivali-sovetskoe-ob.webp)