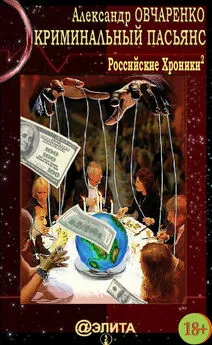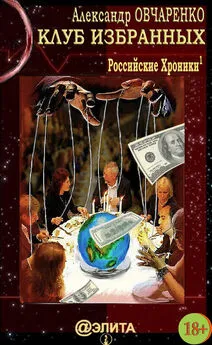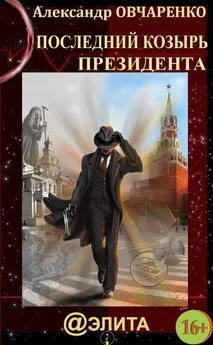Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Название:В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский интеллектуально-деловой клуб
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] краткое содержание
В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда же роман был закончен, мне позвонил Щербаков, заехал:
— Хороший роман написали.
Он, Щербаков, был хороший человек, а вот другой руководящий, когда я сказал ему: «Что вы делаете? Бьете кувалдой по голове, а я же хрупкий станок?», ответил: «Ладно, ладно, тебя быот, а ты, говорят, еще и пьесу написал!»
Видя, что такого ничем не разубедишь, я ответил: «Так оно как получилось-то... Вот Жорж Санд писала романы в общих тетрадях. Закончив роман, прочерчивала черту и под ней же начинала новый... Я же, кончив свой, увидел, что осталось листов сто бумаги, полсклянки чернил. Подумал: «Чернила высохнут, бумага пожелтеет». Стало жалко, ну я и пустил в дело, чтобы не пропадали». Он разразился хохотом... и отпустил меня подобру-поздорову.
Потом я сказал несколько слов по этому поводу у Горького Сталину. Тут же Горький, подпирая меня, сказал Сталину: «Леонид Леонов говорит от имени великой русской литературы. Он имеет на это право, имеет право говорить от имени русской литературы». Сталин налил только себе рюмку водки, выпил и посмотрел пристально в мои глаза. Я не отвел глаз. Он поглаживая ус, сказал: «Понимаю!» и налил себе и мне. Бухарин заискивающим голосом произнес: «Коба, тебе вредно!» Сталин медленно провел поднятым пальцем слева направо перед лицом Бухарина и сказал: «Мне ничего не вредно».
Знаете, А.И., как-то я посчитал сколько раз смерть дышала мне в висок и насчитал 12 раз.
— Пока Всеволод Иванов не поссорил меня с Горьким, вернее, не очернил меня в его глазах, мне было легче работать.
Я работал, работал, работал по 12-14 часов в сутки. И вот думаю, что останется? Многое, говорите? Думаю, нет. Может быть, надо было вместо десяти томов работать по-другому, как Шолохов. Он вложил всего себя в «Тихий Дон», писал его без всяких оглядок. И «Тихий Дон», конечно, останется. «Судьба человека» — прекрасный рассказ, но слабее. Помните, когда Андрей пьет водку. Разве так этот эпизод надо было писать? Вот он стоит перед жрущими фашистами: лежат куски мяса, сала. Он должен был бы сказать: вот вы жрете, а у меня умирает с голоду друг. Дайте мне еды, я отнесу ее другу, хотя это его не спасет, а потом я покажу вам, как умеет пить и умирать русский солдат. Я говорю это только вам, чтобы с помощью моих слов не набрасывали тень нечистоплотные люди. Шолохов действительно был очень талантлив.
— Да, но при вашем варианте вы бы имели леоновскую, а не шолоховскую «судьбу человека», — возразил я.
— И это верно.
Больше часа в этой беседе заняли уточнения, связанные с взаимоотношениями Горького и Леонова. Л.М. дал мне 3 листа бумаги и продиктовал рассказ Горького о дальнейшей судьбе Митьки Векшина. Затем рассказал, как перерабатывал «Вора». Жаловался, что мировые события угнетают его, не хочется работать, овладевает почти равнодушие — ведь какие бы умные мысли не пришли, а все вдет своим ходом. И афоризм: «Чем становишься равнодушнее, тем интереснее наблюдать все происходящее».
Снова заговорил о недооценке русского народа. Рассказал, как Хрущев присылал Шепилова побеседовать «о литературе и — вообще». Как он просил Шепилова:
«Скажите Никите Сергеевичу, чтобы он не пренебрегал русскими, ибо они еще пригодятся» — и как Хрущева эти слова привели в ярость.
Вспомнил и рассказал трагическую историю гениального строителя Ивана Михайловича Колотилова (взял у него кое-что для Потемкина в «Соти»)
И снова повторил: «Вся мировая культура вращается на русском подшипнике».
— Наша политика недальновидна и малоинтеллигентна. Помните «блестинку»? Блестинка в глазу — это интеллигентность, которая видит на 20 веков вперед.
— Отношением Горького ко мне я очень дорожил. Мне всегда нужен человек, который бы вовремя говорил одобрительные слова. Что такое творческий акт? Беспримерное столкновение неодолимого желания сделать нечто ценное и яростный приступ сомнения в способности. Ведь чистый лист — это зеркало твоей бездарности. Кстати, Фадеев боялся оставаться наедине с листом бумаги и убегал.
Л.М. Удивлялся тому, что Фадеев обещал Сталину в свое 50-летие, что он напишет произведение, которое привлечет внимание всего человечества, что сам он и «под дулом Берии не пообещал бы».
Я повторил, что должен написать статью «Горький и Леонов».
— Что ж, напишите, что он первым обратил на меня внимание, прислал очень доброе письмо и вообще высоко отозвался. Но я никогда не обольщался похвалами. Даже после того, как «Вор» имел сертификат Горького, я роман переделал. Горький — это большой человек. И меня всегда занимал вопрос, чем я привлек его внимание. Возможно тем, что брал очень трудные ситуации? Или емкостью фразы, емкостью деталей. Слышал, что Горькому понравилось выражение «возрасти». Пыляев у меня говорит о себе: «Пора на гроб доски воровать». Тут все: и то, что человек пожилой, и то, что он не жулик, и то, что не много преуспел в жизни. Может, его привлекали и библеизмы, то, как я их развертываю. В новом романе они тоже есть.
По телефону Л.М.:
— Я закопался под землю на 100 метров и теперь боюсь, что все это рухнет мне на голову. Делаю все новые варианты, более полнокровные, но их надо вживить. А кто это сделает? Первый набросок был тороплив, неполон. Теперь едва ли хватит сил довести все до конца. Лет мне, как вы знаете, много. Но... все хорошо...
Нынешние писатели даже не догадываются, что в повествовании должна быть своя внутренняя мелодия, нервотура. Нельзя просто написать эпизод и вставлять его в произведение: нарушится кровеносная и нервная структура, связывающая все. Мелодия, строй, сказ, каждая деталь. Я не люблю Ремизова за то, что он описал в романе, как в летний день смердит труп. И сказы его не люблю. Искусственные, выдуманные. Это совсем не то, что, скажем, у Шукшина. У этого было умение услышать фразу с неподдельной интонацией и передать ее так, что я взволнуюсь, — понимаете? Хотя талант его еще не развернулся... Зачем он разбрасывался? Он мог стать большущим писателем...
— Когда я пишу, то придаю значение всему: оттенку слова, количеству слов во фразе, абзацу: если что-то очень важное, то и абзац побольше, менее важное — абзац покороче. Из-за этого не люблю вычерки, предпочитаю писать карандашом и стирать резинкой. Работаю над страницей, пока не будет ни одной помарки. Так любил работать. Теперь- то не то — привыкаю к машинке, ибо не разбираю своего почерка...
— В эти сорок лет определяется будущее последующих 400! Октябрьская революция не конец, а начало беспримерных катаклизмов. Думаю, что в следующем веке будет исключительная вспышка религиозности. Литература вернется к глобальным, масштабным темам и строгому рисунку.
27 мая 1984 г.
Л.М. говорит:
— Я оказался жертвой собственного просчета: создать эпическую вещь, соединив эпичность с ювелирной отделкой каждой детали. Я расковыриваю фразу за фразой, пытаясь добраться до алмаза, отделываю каждый узор, орнамент по всему платью. Между тем, такие произведении, как «Война и мир» или «Братья Карамазовы», создаются из мощных глыб, крупных блоков, и ажурные орнаменты на этих глыбах ни к чему. Все должно восприниматься издали, а кто издали присматривается к орнаменту? Лучше даже, если все выступает в некоей дымке. Видимо, поэтому ни Толстой, ни Достоевский не стремились к предельной отделке, а порой сознательно относились к ней небрежно. Вы правы, это тоже прием, иногда действующий на читателя неотразимее ювелирной работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/1150493/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre.webp)