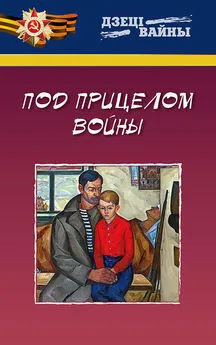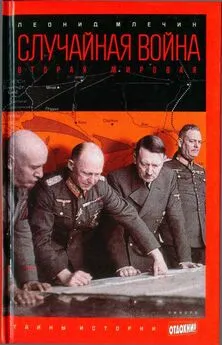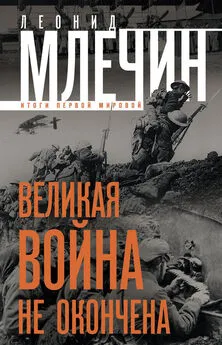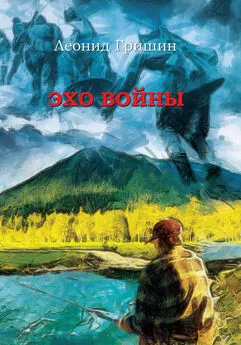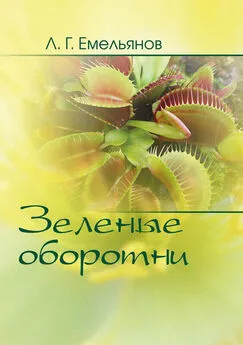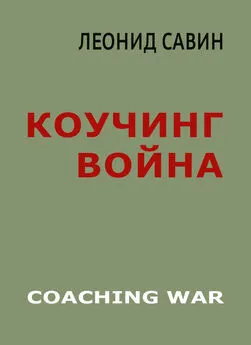Леонид Емельянов - Под прицелом войны
- Название:Под прицелом войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЧетыре Четверти67dd8362-136e-11e6-bded-0cc47a545a1e
- Год:2015
- Город:Минск
- ISBN:978-985-7103-68-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Емельянов - Под прицелом войны краткое содержание
Книга уникальна тем, что в ней Леонид Емельянов, ученый, доктор биологических наук, собрал воспоминания пятнадцати ученых-натуралистов – свидетелей и участников Великой Отечественной войны, которые в послевоенные годы стали исследователями науки и достигли в ней значительных успехов.
Их искренние рассказы, воспоминания призывают представителей молодого поколения изучать историю своей страны и никогда не забывать, что за мир на родной земле заплачено жестокой ценой.
Под прицелом войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вскоре после его ухода к хате (а она стояла крайней на селе) подошли сразу двадцать два лейтенанта, двигавшихся тоже на восток. Очевидно, это были свежеиспеченные выпускники какого-то военного заведения. Увидев их, мать очень расчувствовалась, ассоциируя их с таким же молодым, воевавшим где-то в Литве собственным сыном. В беседе с ней они посоветовали уничтожить письма сына во избежание неприятностей с немцами. Мама так и сделала, а теперь вот жалеем об этом. Не осталось у нас даже названия воинской части, где служил мой брат. И невозможно восстановить, где затерялись его последние следы в этой кровавой мясорубке.
А отступавшие некоторое время еще шли и шли глухими дорогами и тропами. Многие из них остались в партизанских отрядах.
Война шла, но немцев пока никто не видел. Доходили слухи, что они заняли Глуск и даже были в соседней Березовке, которая находилась в пяти километрах от нашей деревни. Оттуда до нас доносился иногда какой-то шум. Видно, там по шоссе двигалась военная техника. Наша или немецкая, никто не знал.
В один из дней такого относительного затишья мы с соседним парнишкой отправились порыбачить на протекающую в 40–50 метрах речку Птичь. Перешли по мелководью на противоположный берег и стали разматывать удочки. В это время послышался сильный рев моторов, доносившийся с противоположного конца деревни. Звук их все нарастал, и вот показалась большая (около 15 машин) группа мотоциклистов. Таких огромных мотоциклов (трехколесных, с коляской) мы еще не видели. На руле у каждого был закреплен ручной пулемет. В конце улицы приезжие остановились, сошли на землю и стали рассматривать в бинокль простирающуюся перед ними территорию за рекой.
Это были оккупанты. Мы не знали, что нам делать. Прятаться было уже поздно, да и некуда. Но двое малышей чужеземцев, видимо, не интересовали, и мы, осмелев, приблизились, наконец, к постепенно собиравшейся вокруг них толпе из стариков, женщин и вездесущих мальчишек. Остановившись поодаль, со страхом и любопытством одновременно стали рассматривать незнакомцев. Одеты они были в зеленые мундиры и такого же цвета брюки и сапоги. День был жаркий, и к нашему приходу мундиры были уже сняты и развешены по забору. Прикрепив к нему зеркальца, многие из приезжих брились. Часть отправилась в близлежащие дома собирать яйца. Некоторые пытались разговаривать с сельчанами. Слышалась непонятная нам гортанная речь.
Меня поразило, что старик, немножко знавший немецкий (кажется, еще по своему участию в Первой мировой), пытался спорить с немцем, утверждавшим, что их войска через 40 дней заберут Москву. Дед не соглашался, и я очень боялся, что немец его пристрелит. Но тот только хохотал, хлопая старика по плечу. Теперь вот думаю, что было бы с нашим упрямым дедом, случись такое в середине или в конце войны. Наверное, быстро бы получил пулю в лоб. А тогда среди завоевателей царила победная эйфория.
Один из немцев извлек из мотоцикла большой рюкзак и достал из него булку хлеба, запаянного в целлофан (что тоже для меня было ново). Нарезал его, накинул на каждый кусок ломтик масла из голубой пластмассовой баночки и стал предлагать бутербродики детворе. Их взяли немногие. Деревенских ребятишек маслом и хлебом не удивишь. Но вот когда он вынул из своего рюкзака столбик кругленьких конфет и начал ими угощать, попробовать захотели почти все. Только детдомовец, приехавший накануне в гости к своим родственникам, остался на месте. И когда ребята его потом спросили, почему он отказался от конфет, ответил: «У врага ничего брать нельзя! И вы тоже должны это знать».
Отдохнув часа полтора на берегу реки, немцы оделись и уехали. А через какое-то время в соседней деревне Березовка на постоянной основе расположился небольшой их гарнизон. Наше Подлужье и река Птичь стали как бы разделительной линией между двумя зонами: немецкой (с южной стороны реки) и партизанской (с северной, где в каких-либо пятистах метрах начинался лес). Так что каждый день нас могли наведать немцы, а каждую ночь – партизаны, что они впоследствии и практиковали. И такой порядок посещений никогда не нарушался. На «чужое» время суток никто не претендовал.
Деловые поездки в Глуск, где стоял более крупный гарнизон, немцы тоже совершали только днем. В основном – гужевым транспортом из трех-четырех подвод. Перед этим предварительно выделенный старостой человек должен был пробороновать дорогу на паре лошадей. На случай, если там заложены мины. Но однажды перестраховка не помогла. На обратном пути под груженой продуктами и мешками с овсом подводой прогрохотал взрыв. Оторвавшееся колесо забросило на недалеко стоявшую сосенку. Сидевшего на мешках немца тоже подбросило в воздух. Приземлился он в придорожной канаве с поднятыми вверх ногами и разинутом от испуга ртом. Открыв через какое-то мгновение глаза, он посмотрел вокруг и нервно расхохотался. Был доволен, что остался живым и партизан поблизости нет. А немцы очень боялись, что вслед за взрывом последует и вооруженное нападение.
В нашем краю, окруженном густыми лесами, их просто не могло не существовать. Пишут о них сейчас разное, но нередко они и были такими – неодинаковыми. Ведь даже в регулярной армии находились свои и удальцы, и трусы, и предатели. А что говорить о разношерстных полувоенных, полугражданских формированиях, разбросанных по лесоболотной глухомани и не имевших зачастую ни четкого руководства, ни довольствия, ни понятия о стратегии и тактике вооруженной борьбы. Были среди них, наверняка, и обычные беглецы, и дезертиры, решившие пересидеть трудные времена вдали и от своих, и от чужих, спасая только собственные шкуры.
Однажды ночью, когда ледок на Птичи уже хорошо затвердел, а снега на нем еще не намело, у калитки залаял наш верный дворовый пес. Почуял незнакомцев. Никто на его зов в хате не отозвался. Тогда он, как проделывал всегда в трудных для него ситуациях, подбежал к окошку у крыльца и передней лапой забарабанил в него. Просил кого-нибудь выйти на помощь.
Когда он отскочил в сторону, в дверь осторожно постучали. На стандартный вопрос отца «Кто там?» прозвучал столь же шаблонный ответ: «Свои. Открывайте!» Щелкнул крючок, и двое ночных гостей прошли в комнату. Сестренка подсказала отцу, где найти спички. И вдруг мужчина произнес: «Что-то знаком мне ваш голос. Не Мартинович ли ваша фамилия? Не моей ли студенткой вы были?» И тут же назвал свою фамилию.
Зажегся фонарь, и в его свете сестра узнала Михаила Семеновича Левитана – декана Минского педагогического института, в котором когда-то училась. Вот такая неожиданность. Надо ли говорить, что после этого пошла вполне доверительная беседа. Расспросив подробно отца о размещении и действиях оккупантов, партизанский комиссар (так он отрекомендовался) сообщил, что едет с отрядом в деревню Поблин (8–9 километров от Глуска) запастись зерном, изрядное количество которого немцы сосредоточили в местном зернохранилище. Вроде как для посева. Но кому бы оно досталось, еще вопрос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: