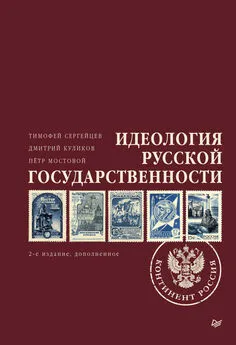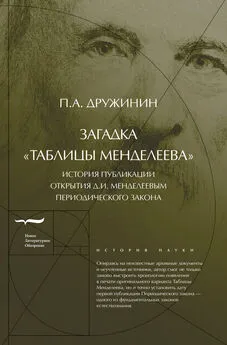Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Название:Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование краткое содержание
Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию…
Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По вагонам пошли люди в военной и служебно-форменной одежде. Начался обычный, повторяющийся по нескольку раз за смену таможенный контроль. В шестнадцатый вагон вошли трое: пограничники – лейтенант Архипов, старший сержант Шлемин и инспектор Брестской таможни.
Нарочно такое не придумаешь! Трудно сказать, все ли герои и положения в произведениях Кренёва (Поздеева) столь же реальны, но здесь-то, во всяком случае, мы видим откровенный подарок автора своим ближайшим коллегам по Пятой службе УКГБ – Виктору Ивановичу Архипову и Владимиру Владимировичу Шлемину, которые вместе с ним явились 19 декабря 1980 года к Азадовскому. Значит, в 1987 году они уже стали героями повести о разведчиках, изданной тиражом в 200 тысяч экземпляров! Конечно, рядовой читатель вряд ли мог узнать в этих бдительных пограничниках сотрудников УКГБ ЛО, но в Большом доме – нет сомнений! – об этом знали все и, добродушно посмеиваясь, живо обсуждали находчивость своего коллеги.
Осведомленность автора, хотя и не слишком глубокая, в вопросах антиквариата дает нам основания предположить, что в Ленинградском управлении специалисты Пятой службы могли параллельно заниматься и вопросами контрабанды и культурных ценностей, что, строго говоря, входило в компетенцию Второй службы. Таким образом, мы можем найти объяснение словам Арцибушева, сказанным им на допросе 1988 года, когда он характеризовал участников обыска: «Один, я понял, связан с антиквариатом, по литературе работал, потому что его интересовало все, что связано с книгами, работал как специалист, как специалист по западной литературе». На подобные мысли нас наводит и тот факт, что замначальника Пятой службы УКГБ ЛО в 1976–1979 годах Ф.А. Мясников был в 1979 году повышен и назначен замначальника Второй службы, а в 1980-м возглавил ее.
Эрудиция Поздеева в вопросах литературы, впрочем, не поражает нас своей глубиной. Приведем пример. В ткань своей повести он вплетает шифрованное письмо контрабандистов, в котором названы «ведущие представители русского и советского символизма и высшей его стадии – акмеизма… – Блок, Белый, Вяч. Иванов, Сологуб, Брюсов, Баратынский, Гумилев, Ахматова, Мандельштам… Что ни имя – жемчужина, нет, бриллиант в короне мировой поэзии».
Сегодня эта фраза кажется довольно обычной, но в тот момент – в 1987 году – это был откровенный сарказм, да и термин «советский символизм» тоже достоин внимания. Однако главное – в том, что, демонстрируя образованность, автор вместо неведомого ему Балтрушайтиса, который должен бы стоять в этом перечне, с легкостью вписал Баратынского.
Впрочем, высокий слог повествователя довольно быстро редуцируется до «генетических выродков, которые любой ценой стремятся поставить себя выше других. До Эйнштейна, Ломоносова и Леонардо да Винчи не подпрыгнуть: скудновато с серым веществом, не одарила мать-природа талантами…». И т. д. и т. п. Дальнейший разбор поздеевской прозы оставим специалистам по истории советской литературы.
Мы не можем сказать, имел ли Азадовский личный разговор с этим господином в усах. Однако нам известно интервью Азадовского, опубликованное в архангельской газете «Правда Севера» от 3 декабря 1996 года – в то самое время, когда бывший полномочный представитель президента РФ в Архангельской области полковник госбезопасности Павел Поздеев баллотировался на пост губернатора Архангельской области.
Интервью вошло в статью «Военная тайна полковника Поздеева», написанную известным архангельским журналистом Алексеем Павловичем Пешковым, в 1990 году окончившим факультет журналистики ЛГУ. В Архангельске он был, если можно так сказать, местным Щекочихиным (правда, в отличие от Юрия Петровича, он в конце 1990-х уехал в США, где до сих пор работает по специальности). Благодаря собственному бесстрашию Пешков незадолго до выборов вытащил на свет правду о человеке, за которого агитировал даже небезызвестный генерал А.И. Лебедь (чей образ Кренёв позднее воссоздаст в своей прозе). Статья состояла из ряда интервью, в том числе и с самим Поздеевым.
Журналист спросил у кандидата в губернаторы об участии в деле Азадовского, но тот «непринужденно открестился, заявив, что, во-первых, он Азадовского очень уважает и готов с ним встретиться, во-вторых, что в Питере тогда не был и, в-третьих, что это легко проверить». После этого настойчивый журналист позвонил Азадовскому и получил его комментарий, который и был напечатан:
Да, Павел Григорьевич имел близкое отношение к моему делу… Это тот самый Поздеев, который курировал нашу писательскую организацию. То, что он отмежевывается от своего участия, мне, в общем, понятно. Вся процедура обыска и ареста была абсолютно незаконной. Дело было грязным. Естественно, он не хочет признавать свою причастность. Ну а встречаться с ним? Я не вижу смысла. Если человек, глядя мне в глаза, будет утверждать: «Нет, вы путаете, Константин Маркович», – то как мне доказать, что Земля круглая?
Статьи архангельских журналистов и телеинтервью с Азадовским, показанное архангелогородцам перед самыми выборами, сыграли тогда свою роль – Поздеев не прошел в губернаторы.
Тщетное
Констатируя вынужденную перемену советской правоохранительной системы к делу Азадовского, мы не можем не задаться вопросом: коль скоро приговор отменен и осужденный оправдан, то какова судьба тех людей, стараниями которых Азадовский совершил такое «несентиментальное путешествие» длиною в два года?
В одном из интервью Азадовский сформулировал свое видение правосудных мер, которые надлежит применить к тем, кому он и его жена были столь многим обязаны:
Я буду добиваться того, чтобы люди, участвовавшие в разработке и осуществлении моего процесса: обысках, арестах, допросах – были признаны виновными в нарушении законов, которые действовали в 1980–1981 гг., и были названы уголовными преступниками.
Здесь ученый не кривит душой – именно этого он и пытался добиться. Однако ему было, разумеется, не под силу сдвинуть махину. Его последующая борьба за уголовное преследование тех, кто сделал его уголовником, проходит, собственно, в том же правовом пространстве, в котором возникло и оказалось возможным и само «дело Азадовского», – в пространстве закрытого общества, социализма с нечеловеческим лицом, всесилия и вседозволенности спецслужб.
Комментируя в 1994 году статью Нины Катерли «Расправа» (см. ниже), известный российский адвокат и правозащитник Юрий Шмидт писал, что в действиях сотрудников КГБ имеется и состав уголовного преступления, статья 176 УК РФ: «Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности».
Но сколько ни бился Азадовский над тем, чтобы привлечь хоть кого-то из виновных к ответственности, все было тщетно. В тот момент, когда прокуратура прекратила его собственное уголовное дело за отсутствием состава преступления, зампрокурора Ленинграда Д.М. Веревкин сообщил ему:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
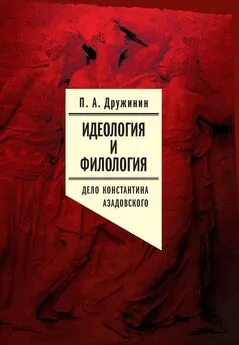


![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)