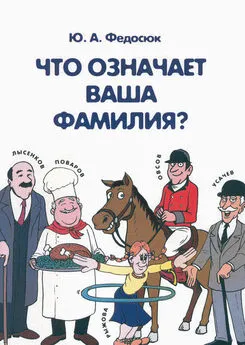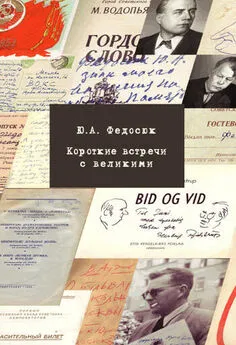Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Название:Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентФлинтаec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-405-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Федосюк - Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов краткое содержание
Как выглядела Москва в 1920-1930-е годы? Как жили тогдашние москвичи, с какими проблемами сталкивались, на чем ездили по городу, где проводили свободное время? Об этом и о многом другом вспоминает известный историк Москвы и русского быта Ю.А. Федосюк (1920–1993).
Книга адресована всем, кого интересует история нашей столицы, жизнь россиян в первые десятилетия после революции 1917 г., их быт и культура. Ее можно использовать и в качестве учебного пособия по москвоведению в общеобразовательных учреждениях.
Утро красит нежным светом… Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тут вся организация подхватывает:
По морям, по волнам,
Нынче здесь, завтра там.
Но не успевает песня разгореться (кстати, время рождения этого популярнейшего перед войной «Моряка» – 1830-е годы), как из соседней, соревнующейся колонны раздается мощное, всезаглушающее:
Идет, ломая скалы, ударный труд,
Взовьется песней алой ударный труд.
Стоит буржуй за рубежом,
Грозит нам новым грабежом,
Но уголь наш и сталь
Его зальют рекой,
Зальют расплавленной рекой.
«Моряк» пытается перекрыть «Ударный труд», но новую песню подхватывают и сзади идущие колонны. Вдруг раздается команда: «Пошли, двинулись, не отставать!» и только что завязанные дружеские контакты мгновенно распадаются.
В 1933 году нашу колонну на площади Революции остановила пропущенная вне графика колонна Метростроя. Метростроевцы шли не разболтанно, как большинство организаций, а строго чеканя шаг, почти как военные. На них были чистые спецовки, а в руках – макеты отбойных молотков. Они дружно пели собственную песню с припевом: «Мы строим наш метро советский» (сейчас сказали бы «метро советское», но тогда род слова еще не утвердился).
Резинотрестовские девицы (тогда я еще шел вместе с отцом) истошно закричали: «Ура, ура строителям метрополитена!». Любимцы москвичей с горделивыми улыбками браво продефилировали мимо.
В другой раз встретилась колонна комсомольцев в серых юнг-штурмовках, затянутых портупеями, в бриджах и шерстяных гетрах. Кто-то из нашей колонны, мужчина, восторженно воскликнул: «Пролетарский привет военизированному комсомолу, ура!» «Ура!» – подхватила вся колонна. Комсомольцы первой шеренги приветствовали нас полуприподнятой рукой и проскандировали: «Рот-фронт, рот-фронт, рот-фронт!»
На подступах к Красной площади колонны демонстрантов приводились в относительный порядок. Линейные поторапливали: «Быстрей, не задерживаться!» Все взоры устремлялись к трибунам мавзолея, люди старались разглядеть стоявших там руководителей, как тогда еще говорили, вождей: «А вот Сталин нас рукой приветствует». «А рядом с ним Калинин, видите?» «А вон с усами Орджоникидзе». «Где же, это ж Буденный». «Да Буденный левее, с Ворошиловым. А Орджоникидзе в сером кителе». «Вон Молотов, в шляпе который» и т. д. Характерно, что большинство стоявших, начиная со Сталина, носили полувоенную одежду – своего рода партийную форму той эпохи. Интеллигентские шляпы можно было увидеть разве только на Молотове и Калинине. Впрочем, на октябрьской демонстрации 1934 года я узрел рядом со Сталиным еще одну фигуру в шляпе, очень худую и высокую, – Максима Горького. Первый и последний раз, когда я видел живого Горького.

Метростроевцы на ноябрьской демонстрации.
Фотография 1933 г.
Накануне войны, году в 1939 и 1940-м, меня в числе других отобранных студентов нашего института и некоторых других московских вузов выделили в сводную колонну допризывной молодежи. До этого несколько дней и много часов нас усиленно муштровали на Москворецкой набережной и около военкомата. Во время репетиций, как они назывались, кормили за казенный счет.

На трибуне Мавзолея во время первомайской демонстрации 1936 г.
Слева направо: Л.М. Каганович, Г.К. Орджоникидзе, Е.М. Ярославский, К.Е. Ворошилов» А.И. Микоян, И.В. Сталин, Г. Димитров.
Одеты мы были в свое, гражданское, только поверх пальто заставили надеть ремни и выдали трехлинейные винтовки. Наша небольшая сводная колонна замыкала военный парад. Первый раз я шел правофланговым, который, как известно, равняться не должен, а смотрит только вперед, соблюдая направление, и поэтому я никого на трибунах не разглядел. Второй раз я шел знаменосцем, впереди, и, скосив глаза, увидел машущего рукой Сталина. Приятно было на следующий день прочитать в газетном отчете: «В заключение военного парада строевым шагом, мало чем отличаясь выправкой от кадровых частей, прошла колонна допризывной молодежи» или что-то в этом духе.
Послевоенные демонстрации, в которых я участвовал, не казались мне столь стихийно веселыми и преисполненными энтузиазма, как довоенные. Может быть, я постарел или прелесть новизны для меня утратилась, но что-то в массовых празднествах появилось казенное, заорганизованное. Всё более громоздким и пышным становилось оформление, резко увеличились число и величина портретов Сталина; казалось, вся демонстрация посвящалась только ему одному.
Демобилизовавшись в апреле 1946 года, я уже 1 мая, надев гражданское, шел в небольшой колонне ВОКСа [20]от Грузинской площади через улицу Горького к Красной площади. Молодых мужчин в нашей организации тогда было мало, большинство – женщины. Рядом шли старики и мужчины, по хворости не ведавшие военной службы. Какому-то болвану вздумалось украсить нашу колонну гигантским деревянным макетом ордена Победы. Притом макет этот не снабдили колесиками, его надо было нести на весу, держа на двух древках. Весил он пуда четыре. Естественно, начальник колонны поручил нести макет мне, как недавнему строевику, но напарника найти было нелегко: пройдя метров сто, каждый назначенный покрывался потом и требовал немедленной замены. А заменять никто не мог или не желал. Конечно же, требовать замены мне не пришлось, спасибо, что хоть как-то находили быстро сменяющихся напарников. Так я и пронес тяжеленный макет до самой Красной площади, весь скрючившись, с дрожащими от усталости руками. Женщины еще посмеивались: «Орденоносец», но мне было не до шуток. А на Красной площади военные к тому же орали: «Выше, что же вы такой орден к самой земле опустили!» С затаенными проклятиями бросил я макет у стенки храма Василия Блаженного и, облегченный, радостно помчался домой.
В 1946 году страну постиг неурожай, и народ, наголодавшийся в войну, снова стал страдать от сильного недоедания. Наша организация, занимаясь пропагандой, рассылала фотографии парадов и демонстраций во все страны. Однако почти все снимки демонстрации 7 ноября 1946 года наше начальство забраковало и их никуда не послали. «Почему?» – недоумевал я, глядя на снимки обычных для меня колонн рядовых москвичей. «А ты вглядись повнимательней», – посоветовал мне кто-то из старших и опытных. Я вгляделся внимательней и ужаснулся: на фоне ГУМа брели бедно одетые шеренги тощих полудистрофиков с вымученными улыбками. Что и говорить, сквернейшая пропаганда для Запада!
До сих пор не могу простить себе, что не взял и не сохранил хотя бы одну из забракованных фотографий – ценный документ для современного поколения сытых и хорошо одетых москвичей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: