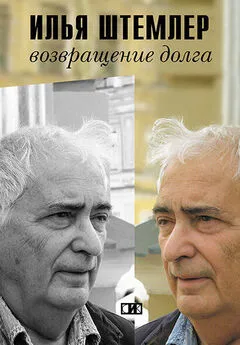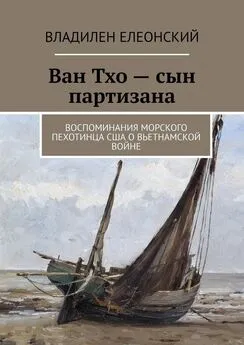Наум Перкин - Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана
- Название:Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Регистр»
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-6937-77-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Перкин - Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана краткое содержание
Только после смерти Наума Перкина, благодаря усилиям Софьи Ефимовны, его жены, повесть (с многочисленными купюрами, переделками, такими, что и первоначальный текст почти неузнаваем) в 1982 г. под названием «Я стал партизаном» вышла в свет, как и другие книги автора. Настоящее издание представляет его повесть «Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана» (1967) без купюр.
Наша цель – напомнить литературным критикам, читателям, соотечественникам о литературном наследии Наума Перкина, показать ту его правду жизни, которая в силу обстоятельств и времени была скрыта от нас.
Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потом вошли в темень, ночной холод и тишину. Куда мы спешим? Что впереди? На эти вопросы никто не давал точного ответа. А общий ответ был у нас самих, у каждого из нас. Немцы взяли Брянск, Орел и Курск, мы оказались в глубоком тылу. Но кто и что мы здесь? Всего теперь осталось трое из нашей группы запасников-артиллеристов, присланных в Н-ский полк и так и не дождавшихся обещанных взводов и орудий. Мы изредка окликаем друг друга – Гудкин, крупный и смуглый здоровяк, ругатель и сквернослов, сгорающий от злости и нетерпения, Герасимов, высокий и тихий, да я. Кто мог знать, что очень скоро, по самой глупой случайности, я и их навсегда потеряю из виду.
Пока что мы молча шли рядом, минуя поля, мелкие перелески и селения. Дожевывали свои последние сухари, углубленные в невеселые думы, кутаясь в плащ-палатки от холода и начавшегося дождя. Словно обоз беженцев движется по степной дороге. Тягуче скрипят телеги – впереди и позади только телеги с ездовыми. Куда девалась пехота? Она словно растаяла в ночи.
Дождь неторопливый, по-осеннему тоскливый и густой. Он бубнит и бубнит в ушах, гулко барабанит по задубевшей плащ-палатке, и чуть прояснившееся небо снова затягивает мглой.
Чертовски обидно, что так обернулось мое назначение, моя отправка на фронт, о которой так много думалось во время непонятных маршей с запасными полками и дивизионами вдоль линии фронта, что снова приходится теперь уходить и выходить, не повоевав по-настоящему. А началось оно, может быть, тогда, когда, радуясь редкому осеннему солнцу, мы приходили на огневую позицию и с тревожным любопытством смотрели в сторону молчавшего противника. Или когда, сидя ночью в траншее с противотанковыми бутылками, мы чутко ловили близкие звуки и шорохи, прислушивались к пулеметным очередям, провожали взглядом гаснущие ракеты. И, наверное, многие уже знали об этом, когда до нас дошли только первые слухи о прорыве немецких танков где-то в районе Трубчевска и как бы в подтверждение этого стало твориться неладное с почтой. Окружение… Вот оно то, чего мы так боялись.
Я видел первых окруженцев в июле 1941 года под Гомелем, на новобелицком стадионе, превращенном в сборный пункт офицерского состава. Тревожные, горькие, смутные были те ночи. Чистенькие и неуверенные, мы жались в угол, к самым дальним верхним трибунам, боясь вшей, что ползали по одежде грязных оборванцев, тесной кучей улегшихся внизу, боясь рассказов и вскользь брошенных слов, от которых щемило сердце, но в то же время полные удивления и – странное дело – чего-то наподобие зависти к отчаянным головушкам, неизвестно как выбравшимся «оттуда». В глазах почти всех этих людей, большей частью молодых, быстрых и ловких в движениях, но с потемневшими лицами, поражал лихорадочно поблескивавший огонь. «Мы еще покажем, кто мы такие», – будто говорили их глаза. Это выражали и пальцы, хватавшие окурок. И все же мы не в силах были побороть в себе чувства жалости к тем, кому завтра предстояло доказывать, что они вправду советские офицеры и ни в чем не повинны.
«С нами это не может случиться, не должно случиться», – думали мы тогда с тайной верой в свое превосходство, превосходство своей судьбы…
Днем подул холодный ветер, дождь прошел, и выглянуло солнце. Но не к счастью. Обоз сгрудился и замер. Впереди был населенный пункт. На этой-то недолгой стоянке я потерял своих попутчиков – стоило лишь на минуту отойти в сторонку.
Началась стрельба, люди шарахнулись в разные стороны. Пригнувшись, я тоже кинулся через болото, почти по пояс в воде. Переждал какое-то время в кустарнике, потом стал осторожно пробираться к скирдам. Тут я увидел старую деревянную клетушку или баньку, скрывавшуюся за скирдой; сюда-то поодиночке пробирались люди. Когда я вошел, было уже там полно народу. Стоял приглушенный говор, слышались стоны раненых. Несколько человек прильнули к единственному окошку, стараясь – кто через голову, кто из-за плеча соседа – увидеть то, что делалось снаружи. Лишь изредка тихий шепот прерывался негромким говорком или стоном раненого.
– Они заворачивают обоз!
– Эти, и офицер тут, вроде сюда идут… Тихо, остановились, смотрят в бинокль…
– Что же, братцы, будет? – жалобной скороговоркой, задыхаясь, повторял маленький пожилой солдат без винтовки, хватая себя за сбившийся на живот засаленный брезентовый ремень и моргая слезящимися глазами.
– Вот что будет! – с раздражением и злобным отчаянием сказал один из тех, что стояли у стены вблизи окошка, но не заглядывали в него. Худой, с длинной грязной шеей, с узким и острым лицом, поросшим черно-седой щетиной, в пилотке со сдвинутыми вниз отворотами, натянутыми на самые уши, он сделал шаг от стены и развернул в вытянутых руках белую тряпку.
Его обступили.
– Только посмей, сволочь! – бросил ему в лицо широколицый и плечистый солдат, поднося под самый нос крепко стиснутый кулак.
Тут утвердил себя в правах старшего лейтенант в больших роговых очках. Отойдя от окошка, он внимательно наблюдал за сценой, ссутулившись, потом довольно громко сказал:
– Подойдут немцы – будем стрелять. Мы теперь воинское подразделение – понятно?
Наблюдатели сообщили, что немцы повернули обратно. Лейтенант сел на чурбан и, положив на планшетку лист бумаги, стал записывать:
– Оружие? Сколько патронов? Следующий!
Карандаш ходил быстро, на руке вздулись вены. Я смотрел на лейтенанта, и он показался очень похожим на того, кто в памятную июньскую ночь 1941 года на дороге из Минска в Могилев вдруг вынырнул из темноты, светя нам в лицо электрическим фонариком. И у того я потом разглядел такие очки, и у того были такие лихорадочно-быстрые движения и все будто заострялось книзу – широкий лоб и верхняя половина головы переходили в узкий подбородок, широкие круглые плечи – в тонкую талию и короткие ноги. Он на одно лишь мгновение вскинул на меня глаза (за выпуклыми стеклами ширились, отсвечивая двойным светом, огромные зрачки) и, записывая, коротко бросил:
– Будем пробиваться, младший лейтенант.
Когда совсем стемнело, удалось связаться с местными жителями и договориться о раненых. Я еще долго видел перед собою бледно-желтое, в рябинку, лицо полулежавшего под шинелью солдата, который то и дело подворачивал ноги, судорожно возился под самым животом и, взвывая от боли, просил: – Товарищи! Братцы! Не оставляйте нас. Товарищи… Возьмите меня с собою…
Была лунная, с леденящим ветром ночь, когда мы осторожно обходили Севск и вступали в деревню Подывотье. Теплом жарко натопленной русской печки и овчинно-тестяным духом пахнуло на меня в просторной избе. В полутьме хозяин, крупный мужик, обросший до самых глаз густой бородищей, рассказывал о немцах, а его взрослые дочки-близнецы хлопотали в горнице, угощая нас хлебом с патокой, принесенной накануне со сгоревшего сахарного завода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
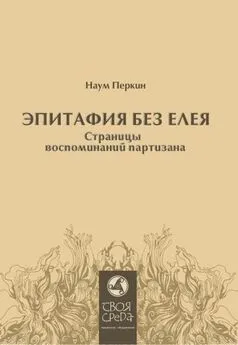
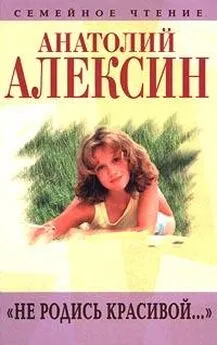

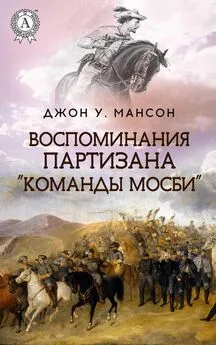
![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/1073510/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan.webp)
![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/1081320/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi.webp)

![Эдуард Асадов - Зарницы войны [Страницы воспоминаний]](/books/1091881/eduard-asadov-zarnicy-vojny-stranicy-vospominanij.webp)