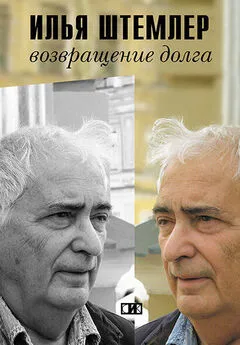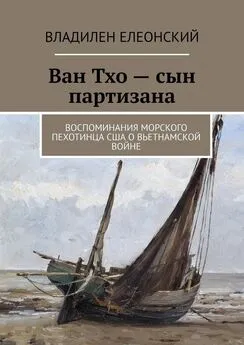Наум Перкин - Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана
- Название:Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Регистр»
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-6937-77-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Перкин - Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана краткое содержание
Только после смерти Наума Перкина, благодаря усилиям Софьи Ефимовны, его жены, повесть (с многочисленными купюрами, переделками, такими, что и первоначальный текст почти неузнаваем) в 1982 г. под названием «Я стал партизаном» вышла в свет, как и другие книги автора. Настоящее издание представляет его повесть «Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана» (1967) без купюр.
Наша цель – напомнить литературным критикам, читателям, соотечественникам о литературном наследии Наума Перкина, показать ту его правду жизни, которая в силу обстоятельств и времени была скрыта от нас.
Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я чувствовал, что смотрят-то на меня с надеждой, у меня ищут опоры. Но что я мог дать? И меня охватила злость – не отчаяние, а именно злость, обида, ярость против всего того, что виною наших бед, нашего дурацкого положения, нашей растерянности и беспомощности. В этот момент все-все происшедшее с самого начала войны и до этого дня, все непонятное, мучительное и нелепое, виденное и пережитое, все горькое и обидное, накопившееся за долгие месяцы, – все это будто вдруг всплыло перед глазами и с криком вырвалось наружу. Почему так произошло?
С того первого горького дня, когда обрушилось ошеломляюще-страшное известие, и до сегодняшнего проклятого утра все непонятным образом делается так, будто никому нет никакого дела до таких, как мы, до многих, будто никому мы не нужны со своими вопросами и со своим желанием быть полезными. С какой ободряющей самого себя деловитостью, с какими надеждами и сознанием долга я укладывал 22 июня свою полувоенную сумку, перелистывал свои записи артиллерийского офицера, бережно засовывал в сумку обтрепанный немецко-русский словарь. Но военкоматы отмахивались от меня, как от назойливой мухи, они будто нарочно снимались с места, перемещались, уходили, прятались в лесах. Один из них я все же настиг в Могилеве, в чаусском лесу мне выдали обмундирование, снабдили ремнем, портупеей и кобурой.
Пусть и с пустой кобурой на боку, еще без настоящего назначения, всего лишь как офицер запасного полка, но с какой готовностью я выполнял первое боевое поручение! Рискуя напороться на фашистов, но почему-то не боясь их, не веря, что они могут мне попасться, шел я напрямик через поле спелой ржи, через обилие трав и полевых цветов за Стародубом, одурманенный запахами плодоносного лета, обливаясь потом, – шел к дорогам, искал тропинки и убежища, где могли оказаться рассеянные бомбежкой, танками и паникой люди.
Дороги и дороги. Дороги Белоруссии, Орловщины, Курщины, Сумщины и Черниговщины. Наплывающие щемящей тоской запахи полыни в темные, черные ночи, сквозь которые мы шли все туда же, тревожные рассветы у реки, поспешные переправы в тумане, безрадостные привалы в лесу. И вот фронт, повернувшийся к нам спиной.
Наша ли, моя ли вина, что и тут, уже лицом к лицу с врагом, для нас снова не нашлось места? Кто в этой непостижимо трагической сумятице виновник, а кто жертва? Главный ли виновник тот старший лейтенант, что захлопнул перед моим носом дверцу штабной машины, когда я всего-навсего пытался узнать обстановку и просил указаний? Выходит, что и он ничего не знал или не мог нам помочь. Виновные, виновные… Да и мы, и я сам, – все мы виновны! Но к чему это? К черту! Не в этом, в конце концов, теперь дело. Есть на свете нечто такое, что выше, важнее всех больших и маленьких обид, счетов и тревог. Оно бесконечно, необъятно, оно распростирается над всей землей, над этим пустынно-молчаливым полем, еще окутанным мглой, над лесами, реками и кручами, над поникшими селениями, над безвестными могилами солдат. Оно в скорби и муках, оно взывает немо, но властно, подступает к самому сердцу. Вот перед кем все мы в ответе! Так разве главное в том, чтобы не дать себя заподозрить в чем-либо плохом на случай, если выживем, а не в том, чтобы думать о самом мучительно важном?
Я сказал вслух:
– Присяга – это борьба до последнего. Борьба не просто за жизнь, а за то, чтобы, сохранив жизнь, воевать дальше. Лейтенант тот прав – иначе нам не пробиться…
Я видел в глазах своих спутников то, что испытывал сам, – сомнение, страх перед неизвестностью.
– Да, что поделаешь, – басом, будто про себя проговорил старшина и, словно заранее прощаясь взглядом со своей длинной, добротной, почти новой шинелью, вскинул ее на плечи и стал застегиваться, – видать, так и придется.
Еще затемно мы добрались до ближайшей деревни и вскоре превратились в местных жителей. Теперь старшина, в помятом картузе и в черной, почти по росту, поддевке, вполне смахивал на крестьянина, возвращающегося с окопных работ. У интенданта вид был жалкий – общипанный рыжеватый треух, бурый вытертый зипун, висящий на узких плечах, да посконные штаны, заправленные в сапоги. Ну, а я… Мне трудно судить. Стеганка была впору, но мало грела, брюки раздобыл полотняные, когда-то выкрашенные в синий цвет, картуз тоже блекло-синеватый.
Попробовал улыбнуться, надвинув шапку набекрень, но шутка не получилась.
Нескончаемой казалась деревня Парахонь. Мы шли по хлюпающей иссера-черной грязи, с трудом вытаскивая ноги, но снова покорно погружая их в жидковато-липкое месиво. Мы думали об отдыхе и еде, изредка заглядывали в окна словно вымерших изб. Я шел впереди, через каждые несколько тяжелых шагов поднимал глаза и видел улицу впереди. Вдруг сердце будто затихло, потом сильно встрепенулось, ударилось и гулко-гулко забилось, и этот гул отдавался в ушах, в висках, голове, а по животу прошел давящий холод. Метрах в двадцати от нас на самой середине улицы стоял всадник, словно выросший из-под земли. Я видел немца на высокой рыжей лошади и видел, как слева, со двора, не спеша выходили еще трое. Они спокойно ждали нас. Не останавливаясь, я чуть обернулся и тихо бросил через плечо: «Идти вперед, спокойно…» И все же заметил, что мои попутчики замедлили шаг. Что он там делает, старшина? На мгновение задержавшись, он лихорадочно пошарил в карманах, потом уже на ходу слегка запрокинул голову и высыпал что-то на язык (он все жаловался на изжогу).
Немец, что на лошади, картинно, словно полководец, поднял правую руку:
– Halt!
Плюгавенький это был немчик – худое бледно-серое лицо в прыщах и на тонкой шее; с большим трудом он держался в седле прямо. Окинув нас беглым взглядом, он той же рукой показал во двор, откуда вышли те трое.
Немцы жестикулировали и тоже показывали во двор. Там возле сарая лежал на соломе большой, уже осмаленный янтарно-коричневый кабан. Мы ухватились за ноги – старшина даже оживился и просветлел – и разом положили тушу на стоявшую рядом крестьянскую телегу.
В этот самый момент, выскочив из дома и вырвавшись из рук высокой худой женщины, к телеге побежал взрослый здоровый парень в одной зеленоватой майке. Он закидывал кверху большие сжатые кулаки, потрясал ими, ворочал круглой стриженой головой так, будто его душили, и не кричал, а рычал – немо, устрашающе и с каким-то душераздирающим отчаянием. Я понял, что это глухонемой и вот-вот может произойти несчастье. Как разъяренный бык несся он к двум немцам, стоявшим у телеги, и один из них, тот, что помоложе, уже вскинул винтовку. Но тут из сарая выскочил старик со всклокоченной рыжей бородой и (непонятно как это случилось) крепко обхватил парня со спины и повернул лицом к дому. Женщина плакала, хватаясь руками за виски.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
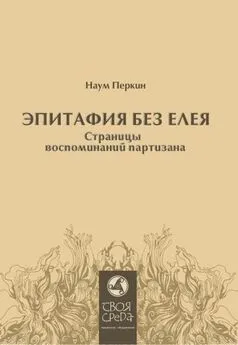
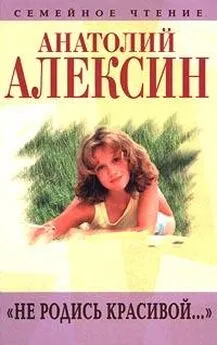

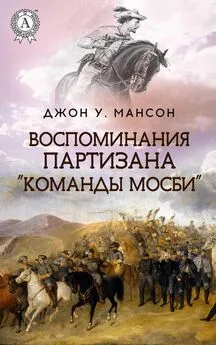
![Юрий Смолич - Рассказ о непокое [Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни минувших лет]](/books/1073510/yurij-smolich-rasskaz-o-nepokoe-stranicy-vospominan.webp)
![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/1081320/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi.webp)

![Эдуард Асадов - Зарницы войны [Страницы воспоминаний]](/books/1091881/eduard-asadov-zarnicy-vojny-stranicy-vospominanij.webp)