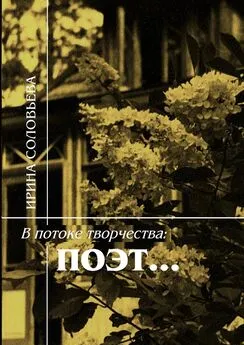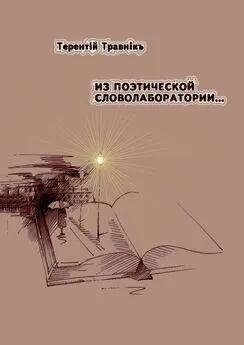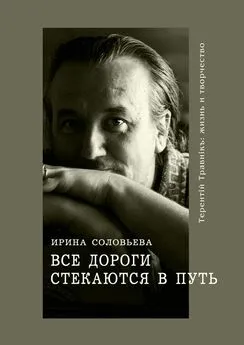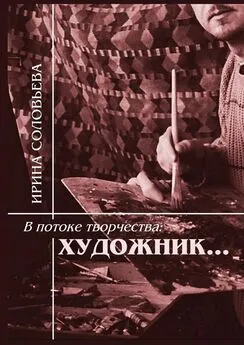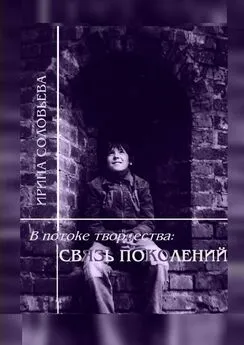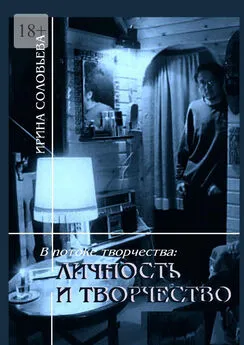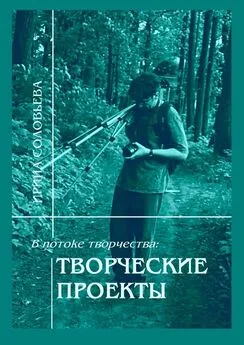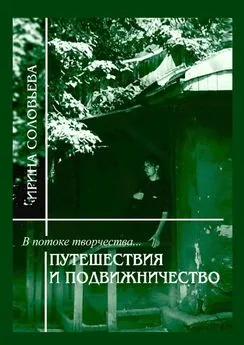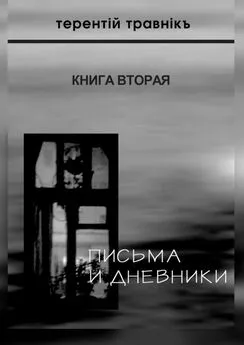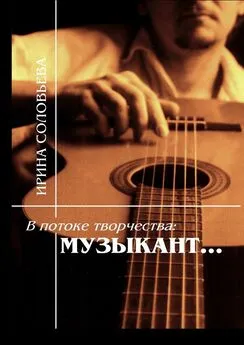Ирина Соловьёва - В потоке творчества: поэт… Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах, дневниках и диалогах современников
- Название:В потоке творчества: поэт… Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах, дневниках и диалогах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448581472
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Соловьёва - В потоке творчества: поэт… Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах, дневниках и диалогах современников краткое содержание
В потоке творчества: поэт… Терентiй Травнiкъ в статьях, письмах, дневниках и диалогах современников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я бы обратил внимание на строки: «Поэт, почти что наобум, / Четверостишья сочиняет…». Действительно, хотя работа над словом, стремление к улучшениям и совершенствование – вещи очень важные, все это, на мой взгляд, нужно (и то, если сам чувствуешь, что нужно, если заметил это или получил убедительную критику) уже после написания стихов на одном лишь вдохновении, «почти что наобум». Иначе поэт из Моцарта превратится в Сальери. Самое же лучшее для поэта – написать хорошее стихотворение или, вообще, шедевр на одном дыхании и убедиться, что ничего исправлять уже не надо. Моцарт потому и стал символом именно такого творчества, потому в пьесе А.С.Пушкина ему и завидовал Сальери, добившийся славы трудом и занимавшийся при этом трепанацией искусства, совершивший в итоге убийство, что в партитурах Вольфганга Амадея Моцарта, которые тот делал сам, никаких правок не нашли, не нашли черновиков, потому что их просто не было. Не правил, как утверждали современники, свои рукописи и Вильям Шекспир. А Юлий Ким написал:
Ведь согласитесь, какая прелесть
Мгновенно в яблочко попасть,
почти не целясь.
Я сам поражаюсь тому, что я сейчас сделал. Я сделал программное заявление о взглядах на творчество, отталкиваясь от двух (!) строчек Терентия Травника. Получается, что от строчки случаются не только стихи.
«Умение читать и говорить…» – это, возможно, главное стихотворение цикла о творчестве и одновременно прославление Книги в нашей жизни. Если бы стоящая на одной из моих книжных полок антология «Песнь о книге» выпускалась не в 1977 году, а сейчас, то уверен, что стихотворение Травника заняло бы в ней достойное место. Простая грамота сравнивается с нитью Ариадны, которая, как известно, провела Тезея сквозь лабиринт.
Руны, иероглифы и буквы сравниваются со звездами, созданные ими чудеса ставятся выше всех сокровищ мира, в их начертании сокрыта «великая загадка мирозданья». Когда в предпоследней строфе поэтом упоминаются первые пять букв кириллицы, возникает параллель с пушкинским «Пророком» (тем более что раньше говорилось: начертание рун, иероглифов и букв рождено «из пророческого сна»). «Глаголь, добро неся, благую весть», – призывает поэт и это, очевидным образом, перекликается с пушкинской строкой: «Глаголом жги сердца людей», – но именно перекликается (свое мнение об аллюзиях я уже высказывал ранее).
Важнее заметить то, что в «Пророке» творчество, искусство соединяется с религией. Также и у Травника. «Умение читать и говорить» – это «безмерный дар от Бога к человеку», «благая весть» – это по-гречески «Евангелие». А главное – упоминание в последней строфе Логоса, то есть Иисуса Христа, Бога-сына, второго лица Святой Троицы, нисколько не противоречит стихотворению, а доводит его до логического финала, ведь «логос» – это по-гречески и «слово», и «смысл», и «форма», и «содержание». Посмотрите, как же красиво написал об этом Травник:
Великий Логос, свет Небес несущий,
Безмерно молчаливый в вышине,
Открывший образ, знание дающий,
Ты – символ абсолюта на Земле.
(А потрясающее ощущение в «Пророке» сразу всего мира отразилось в стихотворении Травника «Когда мы щуримся от солнца…»). В следующем стихотворении мысль о необходимой для поэта искренности выражена с потрясающей силой и неожиданностью:
Писать стихи – это значит раздеться,
Догола, до души и дальше…
Травник считает, что нужно возвращаться к себе, к своей жизни, начиная с самого детства, причем не только без фальши, но и без оценок. Скажу вам, что мне очень близок его призыв «постоянно держать выше уровня планку». Да, поэт, прозаик, вообще, любой художник должны ставить даже не максимальную, а сверхмаксимальную планку, превышающую его способности. И только тогда удается проявить себя настолько, насколько это возможно. Те же, кто ставит планку низко, естественно, добиваются низких результатов.
Очень эффектно и мастерски построено стихотворение «Стихи так трудно обмануть…». Каждая строфа начинается с очень похожих по форме и совершенно разных по смыслу строк: «Стихи так трудно обмануть…», «Стихами трудно обмануть…», «Стихами трудно обмануться…». И каждый раз за первой строкой следует одна и та же: «…Но, тем не менее, возможно». Все время – неожиданные финалы. Как можно обмануть стихи? Запутав многосложно, туго затянуть их рифмой (то есть, по моей трактовке, употреблять непонятные слова, делать акценты на рифмы, которые не имеют для стихов такого уж большого значения, – поверьте автору опубликованной в журнале «Литературная учеба» статье «Проблема мужских и женских рифм»). Как можно обмануть стихами? Хватит того, чтобы «неосторожно их прочитать кому-нибудь». А как можно обмануться стихами? Но вдруг… Тут уж никак не ожидаешь трагический финал:
Когда, введенные подкожно,
Они к артерии прорвутся… —
пишет поэт, показывая прекрасную драматургию жанра.
Стихотворение «Есть в слове „стих“ какая-то загадка…» заслуживает особого внимания хотя бы своей потрясающей строкой: «Как будто жизнь вошла в четыре строчки…».
В выражении «как будто» звучит удивление автора (не люблю я термин «лирический герой»; настоящий поэт всегда пишет от своего лица, если редкое исключение, подтверждающее правило, не оговорено специально). Удивление, переходящее в осознание, – да, это действительно так, и твоя жизнь, воплощенная в стихах, собирает тебя «по кубикам, побуквенно». Блестяще определены мощь и сила стиха – «разящая словесная шрапнель».
Стихотворение, посвященное слову «стих», этим словом и заканчивается. Но это уже не существительное, а глагол (конец последней строки выглядит очень неожиданным), и речь идет о смерти поэта. Однако… там, где нельзя было ожидать трагического финала, он есть; теперь же, несмотря на тему, трагизм отсутствует. Ведь поэт «не разбился на излете, а в землю лег зерном». О Феликсе Мокееве, своем друге и учителе, великолепном режиссере и актере, который, кстати, и сам был прекрасным поэтом-лириком, Травник пишет:
Нет смерти у рожденного поэта,
Есть только жизнь, испитая сполна.
Потерю такого титана в своей жизни Терентий переживал очень долго и горько. Немало работ, посвященных Феликсу, в том числе и музыкальных, он написал в то скорбное время.
Цикл о поэтическом творчестве Травник завершает стихотворением «Я напишу в стихах о нашей жизни…». Первая, очень простая строка, переходит в неожиданную вторую: «…Возможно, проза для нее тесна…». Однако автор желает оставить на странице «кусочек белого» и разделяет оба четверостишия точками. Замечательный графический прием для эмоционального усиления. То есть им осознается и необходимость искренности («Писать стихи – это значит раздеться…»), и необходимость о чем-то умолчать. Здесь с Травником нельзя не согласиться, а возникшее противоречие – противоречие кажущееся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: