Журнал Наука и жизнь, 2000 № 05
- Название:Журнал Наука и жизнь, 2000 № 05
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал Наука и жизнь, 2000 № 05 краткое содержание
Журнал Наука и жизнь, 2000 № 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. Картина художника А. М. Васнецова. 1916 год.
В торговых рядах умелых московских ремесленников, изделия которых пользовались спросом и в заморских странах, книжные ряды занимали особое место.
Гость Гаврила Фетиев. Картина неизвестного художника конца XVII века. Купцы получали почетное звание «гость» от самого царя и переходили в высшую категорию привилегированного торгового люда. В этом значении термин «гость» сохранился вплоть до петровских реформ 1722–1728 годов.
Немалую роль в формировании божественного образа царя и в создании рабской иерархической пирамиды, бесспорно, сыграла и долгая зависимость от Золотой Орды. Ордынский хан именовался в русских летописях царем. Именно там, в Орде, московские князья почерпнули образцы светского управления государством; власть русского царя в точности повторила характер абсолютной власти ордынских ханов. Но там подобный образец стал следствием кочевого быта, в походе приказы не обсуждают, их выполняют. Хан стоял на самом верху пирамиды подчинения и разделял всю ответственность за судьбу подвластных ему людей.
Между тем русский царь в XVII столетии еще и не задумывался о своем долге — печься о благе народа. Государственная зрелость русских царей находилась почти в зародыше. Как писал В. О. Ключевский, «государство московского государя считалось его вотчиной, наследственной собственностью». Царь «свободно располагает… имуществом и жизнью своих подданных». А они покорно, раболепно подчинялись его власти. Во второй половине XVI века западный мир удивляло, что «рожденный в рабстве московит… восхваляет страдания от тирании». В XVII веке иностранцы неизменно поражались «отсутствию всякого аристократического гонора» у московских вельмож. «В челобитных царю все пишутся уменьшительными именами: бояре и служивые люди прибавляют к этому «холоп твой», гости — «мужик твой», прочие купцы — «сирота твой», боярыни — «рабица или раба твоя». К примеру, общественный и церковный деятель, писатель, проповедник, наставник царских детей Симеон Полоцкий подписал свое приветственное послание новому царю Федору Алексеевичу так: «Пресветлого царского ти величества, милостивейшаго моего благодетеля нижайший раб и присный богомилец Симеон Полоцкий, иероманых недостойный».
Московский вельможа чрезвычайно ревниво относился к занимаемому им месту при царе. «Пропуском к должностям» являлись происхождение, заслуги предков и уж только затем личные заслуги. Достойная должность — это управитель каким-либо Приказом, стольник, виночерпий, кравчий, конюший… Удаление же от глаз государя — наместником в другой город или в собственную вотчину — считалось опалой. Чем ближе к царю служба, тем более почтения в обществе. Эту честь ревниво и всеми способами оберегали. Местничество отменили в 1682 году.
Стремление быть подле царя определяло в значительной степени образ жизни знатных людей в городе. Находившиеся на службе при государе или на государственной (а «строгого различия между делом государевым и государственным» «вообще не полагалось») бояре и дворяне составляли государев двор и постоянно должны были являться во дворец. Не один раз на дню приезжали они «ударить челом государю» и находились здесь по несколько часов. Одетые в парадные платья, они присутствовали на приемах послов, при торжественных богослужениях, в царских выездах, на царских пирах и т. д.
Что же касается простых горожан, «не считая лиц духовного звания», то их время в значительной степени поглощало домовое хозяйство. Москва в XVII столетии представляла собой огромный город-деревню с почти непроходимыми в дождь улицами. Городские дворы порой мало отличались от деревенских. По утрам на звуки пастушьего рожка коров выпускали в стадо, которое пастух вел на городские выгоны. На улицах и пустырях можно было видеть домашнюю птицу. Нетрудно представить, сколько усердия и сил требовалось для экономного ведения хозяйства, для поддержания чистоты во дворах и в доме.
Городскими занятиями москвичей были ремесла, торговля, извоз и другие необходимые в городской жизни дела. Они живо откликались на всякие общественные события. Непревзойденное умение русских ремесленников обучаться, подражать, перенимать поражало приезжавших с Запада: «Русские ремесленники превосходны, очень искусны и так смышлены, и все, что сроду не видывали, не только не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь хорошо, как будто с малолетства привыкли, в особенности турецкие вещи: чепраки, сбруи, седла, сабли с золотою насечкою… Все вещи не уступят настоящим турецким…» Что это? Юная открытость всему новому (если говорить о молодости нации), особая способность молодой души, пластичной и гибкой, способность, часто утрачиваемая в зрелом возрасте? Но, возможно, это врожденная национальная особенность? О том же удивительном свойстве русских людей будут говорить и столетие спустя: «… народ этот обладает замечательными способностями, кроме уже того, что он любит подражать, как в хорошем, так и в дурном…»
Упоминание о подражании «в дурном» заставляет нас обратить внимание и на такие замечания чужеземцев, отнюдь не редкие: «Однако и самый последний крестьянин так сведущ во всякого рода шельмовских науках, что превзойдет и наших докторов (ученых), юристов, во всяческих казусах и вывертах». Или: «Один еврей (житель Руси. — Прим. Р. Б .)… говорил нам, что евреи превосходят все народы хитростью и изворотливостью, но что московиты их превосходят и берут над ними верх в хитрости и ловкости». Увы, мы и сегодня, похоже, превосходим весь мир в плутовских науках.
Конечно, иностранцев с их нелицеприятными репликами можно было бы заподозрить в необъективности, но это совсем не относится к высказываниям упоминавшегося ранее Крижанича, который писал о наших соотечественниках с искренними братскими чувствами. Так же, как и русские, он не любил западных людей, которые представлялись ему «исполненными всяких хитростей», скупыми, алчными, скрытными, злопамятными, притворными. Однако он понимал, что они промышленны, «не проспят ни одного прибыльного часа». В противоположность им русские люди, по его наблюдениям, простосердечны, простодушны, незлопамятны, искренни, но, к огорчению Крижанича, ленивы, небережливы. И большой бедой считал он уже упоминавшуюся склонность к крайностям, неумение «средним путем ходить».
Тема «Русские в допетровскую эпоху» невероятно обширна, важна и ответственна. Некоторые стороны проблемы только намечены, подчас они намеренно представлены в полемическом ключе, некоторые вопросы вообще остались вне рассмотрения. Например, особо можно говорить о русской женщине, об обучении на Руси, о литературе и о многом другом, раскрывая через это какие-то грани русского характера наших предков. Мы практически не говорили об отношении современников XVII века к предвестникам перемен будущего столетия. Намеченные особенности русского характера тоже нуждаются в обстоятельном исследовании.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
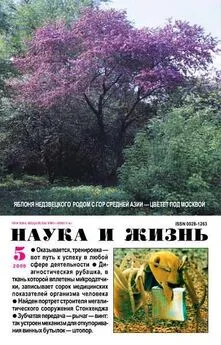
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)](/books/1060089/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 10 (17)](/books/1060090/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 07 (14)](/books/1061246/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/1061248/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/1061249/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 02 (9)](/books/1061250/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 07 (7)](/books/1061281/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 06 (6)](/books/1061282/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 03 (3)](/books/1061285/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 02 (2)](/books/1061286/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika.webp)