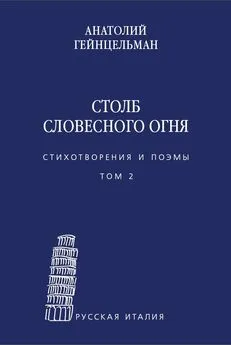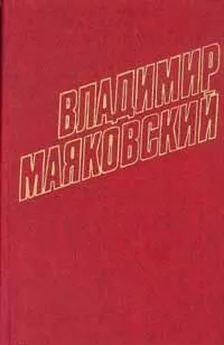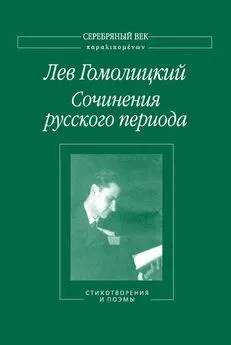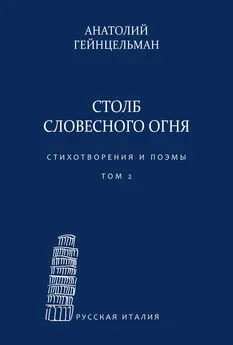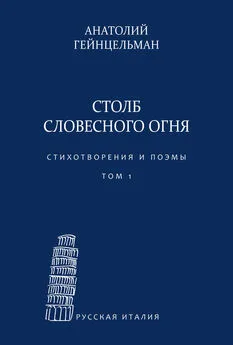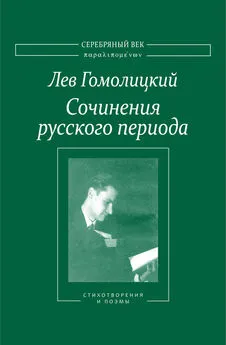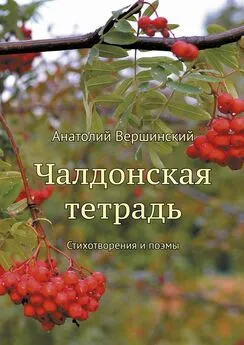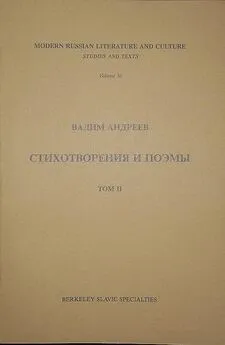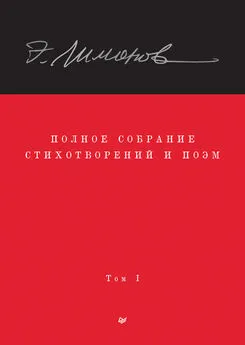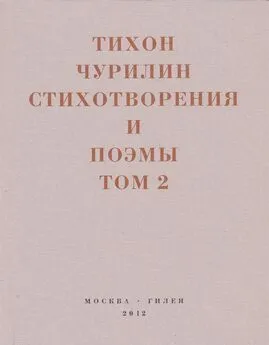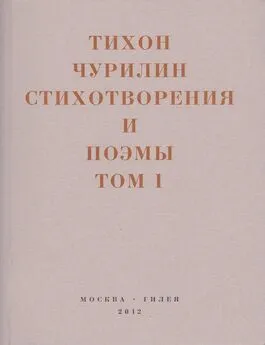Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
- Название:Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978–5–91763–087–8, 978–5–91763–089–2 (Том 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2 краткое содержание
В настоящем издании представлено поэтическое наследие поэта Анатолия Гейнцельмана (Шабо, 1879 – Флоренция, 1953), прожившего большую часть жизни в Италии (главным образом, во Флоренции). Писать стихи Гейнцельман начал еще в конце XIX в. и в 1903 г. в Одессе опубликовал первую книгу, так и оставшуюся в России единственной. Находясь в стороне от литературных кругов русской эмиграции, Гейнцельман продолжал писать, по его словам, для себя и для жены, стараниями которой наследие поэта было сохранено и архив передан Флорентийскому университету.
В первый том вошли прижизненный сборник «Космические мелодии» (1951), а также изданные вдовой поэта Розой Хеллер книги «Священные огни» (1955) и «Стихотворения. 1916–1929; 1941–1953» (Рим, 1959) и небольшая «Автобиографическая заметка».
Второй том впервые представляет читателю рукописные книги А.C.Гейнцельмана, недавно найденные во флорентийском архиве проф. Луиджи Леончини. Они позволяют ознакомиться с творчеством поэта в переломные периоды его биографии: во время Первой мировой войны и революции, в пору скитаний на юге России, в годы Второй мировой войны, и служат существенным дополнением к изданным поэтическим сборникам.
Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прочтение репрезентативного количества текстов такого рода – нескольких опубликованных сборников Гейнцельмана – позволяет выявить использование сходных формулировок, повторение образов, доминирование нескольких излюбленных форм и размеров. Очевидно, его поэтика для достижения своих целей способна ограничить вариацию и свести к минимуму эксперимент. Осознанность такого снижения вариативности выражается и в письме к Кюфферле: «Теперь я вернулся к форме сонета, предпочитая сконцентрировать мотив или переживание в 14 строчек, чтобы не расплыться, как летние облака». Лирика подчиняет себе прочие формы поэтической речи, что дает основание Гейнцельману сказать: «я написал несколько драматических произведений, но они мало чем отличаются от моих лирических стихотворений». Как мы видим, при реализации такого механизма создания потока текстов (ср. «О них уж столько я писал, Что счет элегий потерял») происходит обнажение приема, возникновение устойчивых ассоциативных групп и определенного формульного стиля [13] Поляков Ф.Б. Иероглиф и фреска. Мифопоэтические рефлексы поэтики модернизма в творчестве Анатолия Гейнцельмана // Die Welt der Slaven, XXXIX/1 (1994). С. 160.
. Наряду с формализацией повествовательных схем в поэзии Гейнцельмана действуют и парадигмы мифопоэтического переосмысления изображаемого. Чтобы представить себе их комбинаторные возможности, обратимся к некоторым компонентам поэтического космоса Гейнцельмана.
Анатолий Гейнцельман был уроженцем колонии Шабо, основанной швейцарскими переселенцами в 1822 г. в Бессарабии, недалеко от Одессы. История этого миграционного процесса исследована в рамках цюрихского проекта о русско-швейцарских связях [14] Roman Bühler, Heidi Gander-Wolf, Carsten Goehrke, Urs Rauber, Gisela Tschudin, Josef Voegeli, Schweizer im Zarenreich. Zur Geschichte der Auswanderung nach Rußland (Zürich, 1985) [Beiträge zur Geschichte der Rußland-Schweizer, Bd. 1]. – В октябре 1992 г. по немецкоязычному швейцарскому телевидению был показан репортаж Helen Stehli Pfister о Шабо, в котором приводились интервью с несколькими его уроженцами, вернувшимися в Швейцарию. Мы обратились к одному из них с вопросом о Гейнцельмане, фамилия которого у нашего собеседника оказалась на слуху, и он упоминал о запомнившихся ему каких-то связях этой семьи с текстильной торговлей.
. Поселение просуществовало недолго, не более столетия, Гейнцельман окончательно покинул родные места незадолго до распада прежнего жизненного уклада. Однако и скорый конец, и недавность освоения пришельцами нового места в «дни Александровы» только оттеняют всю древность исторических реминисценций и бесчисленность человеческого передвижения в этих краях. Глубина такого воспоминания об освоенном и родном пространстве сопоставима, как нам представляется, с крымско-киммерийской мифологемой Максимилиана Волошина.
В изначальном мире Гейнцельмана традиции швейцарских переселенцев, протестантские правила бытовой организации («Там висел квадратный доктор Мартин Лютер»), немецкоязычное обличие культуры переплетаются с этнической и языковой пестротой, православным и иным благочестием, еще живым воспоминанием об османском владычестве. Современность утверждает себя в пространстве, заполненном материальными знаками археологической древности, когда почти стираются различия между свидетельствами мира античного и мира варварского, когда лишь немногие из них поддаются датировке, т.е. несут на себе знак исторического времени. Швейцарская традиция со всей своей замкнутостью превращается в экзотику, а пестрота окружения становится нормой. Немецкая языковая стихия Гейнцельмана открывает путь к русской, в которой поэт принимает решение остаться, хотя немецкая культура не утрачивает, по-видимому, своего высокого статуса в его сознании, поскольку письмо к Кюфферле, петербуржцу по рождению и литератору, принадлежащему к нескольким культурам, он символически завершает цитатой из баллады Гёте «Певец» («Der Sänger») в оригинале [15] В целом обращает на себя внимание эта связь литературного отшельника Гейнцельмана с Р. Кюфферле (1903–1955), известным переводчиком (в том числе переводившим и Гёте на итальянский), собеседником Вяч. Иванова; ср. о нем: «Среди миланских друзей был также Ринальдо Кюфферле, писатель, поэт, прекрасно знающий по-русски, переводчик многих русских оперных либретто на итальянский язык; это был живой интересный человек, ревностный антропософ»; Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце / Подг. текста и комм. Джона Мальмстада. Париж, 1990. С. 181–182. См. также: Daniela Ruffolo, Vjačeslav Ivanov – Rinaldo Küfferle: Corrispondenza //Archivio italo-russo. A cura di Daniela Rizzi e Andrej Shishkin / Русско-итальянский архив. Составители Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. P. 563–601 (Labirinti, 28).
. Именно в южнорусском пространстве перекрещивание культур является знаковой характеристикой (что, в частности, подчеркивает и Волошин). Наиболее ощутимо выражение такой культурной полифонии в многоязычии всех черноморских регионов. О восприятии его уроженцами Севера говорит, например, такая деталь в воспоминаниях выдающегося историка искусства, москвича Н.П. Кондакова о его прибытии в Одессу: «Столь же восхитила меня любопытная характерность своеобразного южного города, напомнившего мне европейские закоулки. Мне нравилось, гуляя по Одесскому бульвару, слышать со всех сторон итальянский, французский, греческий языки и с недоумением оборачиваться, заслышав русский разговор» [16] Кондаков Н.П. Воспоминания и думы / Сост., подг. текста и прим. И.Л.Кызласовой. М., 2002. С. 132.
. Элиас Канетти, уроженец Рущука на Нижнем Дунае, зафиксировал воздействие этого языкового смешения на свои детские впечатления, когда в один день можно было услышать речь на семи-восьми языках [17] Elias Canetti, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. 2. Auflage (Mün-chen–Wien, 1977), S. 10.
.
«Воспоминание святое» о Шабо его детских лет легло в основу самоидентификации Гейнцельмана под именем Anatolius Ponticus – надписи под автопортретом, сделанном им в 1917 г. в России [18] Впервые воспроизведен в издании: Анатолий Гейнцельман, Священные огни (Napoli, [1955]).
. Однако поэтическое воспоминание о понтийском мире не ограничивается рамками воспоминания биографического. Оно включает в себя также несколько легендарных и исторических пластов, в том числе отголоски предания об Овидии, италийском поэте-изгнаннике на Понте, и образ скифского прошлого этой земли. И тот и другой мотив, знакомые нам по многочисленным примерам из мифопоэтического арсенала русской культуры, позволяют взглянуть на описываемое пространство одновременно как на часть и греко-римского, и варварского мира, при этом вовлекая и контексты собственной культурной традиции, прежде всего пушкинской.
Этноним скифов в составе квазиисторических и историософских парадигм для русской самоидентификации в культуре порождает разветвленную семантику [19] Ср. некоторые примеры в кн.: Леонтьев Я.В. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М., 2007. С.12–20.
. Получившие широкое хождение образы оргиастической стихии, губительной для культуры, не вытесняют тех ассоциаций, которые важны для скифской символики в пределах античной номенклатуры. Гейнцельман прибегает к этому обозначению, в частности, в рамках любопытной композиции стихотворения «Голубенький цветок» из цикла «Натюрморты» 1946 г. – словесного автопортрета, сопряженного с автоэпитафией. Экфрасис воображаемого надгробного камня, предлагая набор значимых для поэтики Гейнцельмана мотивов (иероглиф, менестрель, облик птицы), отождествляет адресата с поэтом и дает его собственное, прозрачно зашифрованное имя «Анатолий, Божий гном» – гном соответствует нем. Heinzelmännchen , отраженному в фамилии поэта.
Интервал:
Закладка: