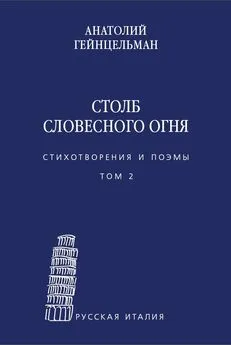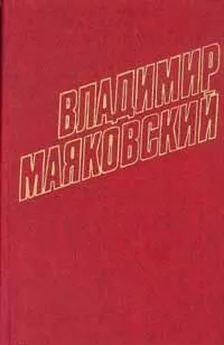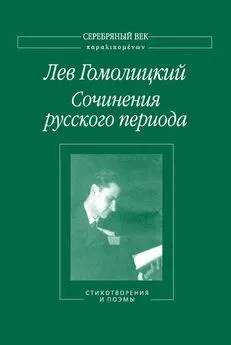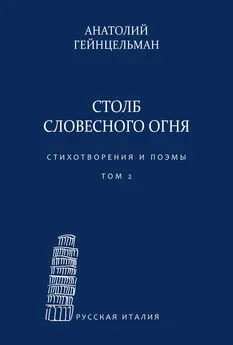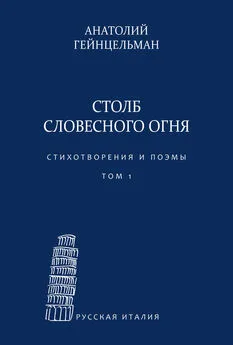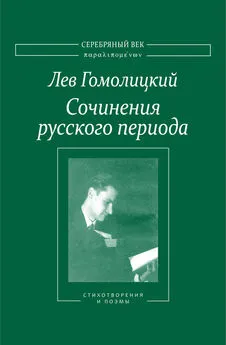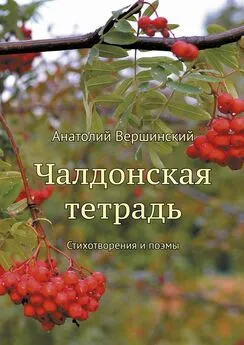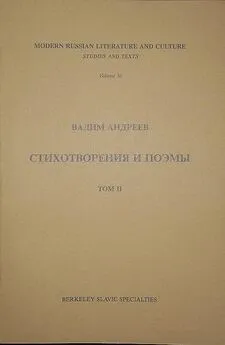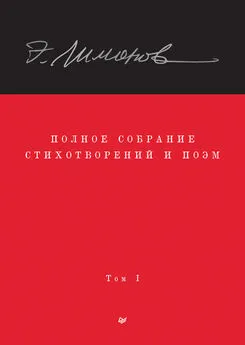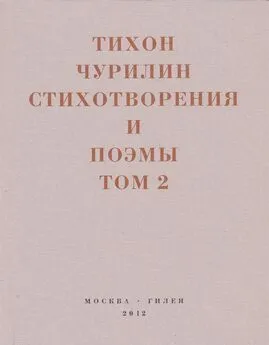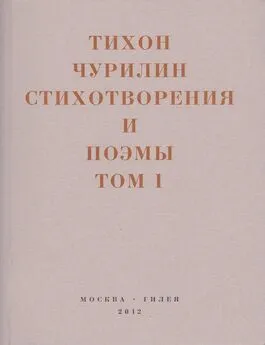Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
- Название:Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978–5–91763–087–8, 978–5–91763–089–2 (Том 2)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Гейнцельман - Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2 краткое содержание
В настоящем издании представлено поэтическое наследие поэта Анатолия Гейнцельмана (Шабо, 1879 – Флоренция, 1953), прожившего большую часть жизни в Италии (главным образом, во Флоренции). Писать стихи Гейнцельман начал еще в конце XIX в. и в 1903 г. в Одессе опубликовал первую книгу, так и оставшуюся в России единственной. Находясь в стороне от литературных кругов русской эмиграции, Гейнцельман продолжал писать, по его словам, для себя и для жены, стараниями которой наследие поэта было сохранено и архив передан Флорентийскому университету.
В первый том вошли прижизненный сборник «Космические мелодии» (1951), а также изданные вдовой поэта Розой Хеллер книги «Священные огни» (1955) и «Стихотворения. 1916–1929; 1941–1953» (Рим, 1959) и небольшая «Автобиографическая заметка».
Второй том впервые представляет читателю рукописные книги А.C.Гейнцельмана, недавно найденные во флорентийском архиве проф. Луиджи Леончини. Они позволяют ознакомиться с творчеством поэта в переломные периоды его биографии: во время Первой мировой войны и революции, в пору скитаний на юге России, в годы Второй мировой войны, и служат существенным дополнением к изданным поэтическим сборникам.
Столб словесного огня. Стихотворения и поэмы. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В позднем стихотворении Гейнцельмана «Овидий» функция памяти как диалога с прошлым реализуется в двойном ключе – воспоминанием о прошедшем (Шабо) и напутствием Овидия, предсказывающим поэту такую же судьбу изгнанника. Жизненный путь обоих поэтов оказывается взаимосоотнесенным, представляя собой метаморфозу жизненного пространства: римский поэт попадает в глушь и безвестность понтийского края, предопределяя мучительную участь («в изгнании на дыбе висеть, как я <���…>») понтийского уроженца в Италии («<���…> меж палатинских роз»). С эпизодическим переключением итальянских образов из области культуры и эстетического наслаждения в область переживания своего изгнания может быть вызвана их эпизодически негативная трактовка (например, сопоставление Флоренции с пустыней). Вероятно, аналогичный механизм восприятия вынужденности своего пребывания на юге, несвободы в ссылке побудила Пушкина, сопоставив свою судьбу с Овидием, развить ассоциации с дантовским Inferno [20] Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Wien, 1992. С. 211–227 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 27). Ср. также: Boris Gasparov, Русская Греция, русский Рим // Robert P. Hughes, Irina Paperno (eds.), Christianity and the Eastern Slavs. Vol. II. Russian Culture in Modern Times (Berkeley–Los Angeles–London, 1994), с. 245–286, особ. с. 257 (California Slavic Studies XVII). Важны замечания исследователя об открытости структуры подобных мифопоэтических схем, делающей возможным рекомбинацию различных повествовательных элементов и не стремящейся к унификации источников: Boris Gasparov, Encounter of Two Poets in the Desert: Puškin’s Myth // Andrej Kodjak, Krystyna Pomorska, Stephen Rudy (eds.), Myth in the Literature (Columbus OH, 1985), p. 124–153 (New York University Slavic Papers, V). О пушкинском интересе к судьбе Овидия и его текстам см., например: Шапир М.И. Статьи о Пушкине. М., 2009. С. 109–115; упомянем также работу: Helmut Schneider, Ovids Fortleben bei Puschkin (Frankfurt am Main, 2008) (Studien zur Klassischen Philologie, 159).
. Мифологема Овидия в русской поэтической традиции, представленная также у Мандельштама и Бродского, предполагает по отношению к этой фигуре наличие особого культурного кода [21] Ичин К. Поэтика изгнания: Овидий и русская поэзия. Белград, 2007.
. Пространственная метафорика Гейнцельмана, исходя из традиционного осмысления поэтического предания, в том числе легенды о гробнице Овидия [22] Формозов А.А. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. М., 2000. С.55–72; см. также: Joseph Burney Trapp, Ovid’s Tomb: The Growth of a Legend from Eusebius to Laurence Sterne, Chateaubriand and George Richmond // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. XXXVI (1973), pp. 35–76; Joseph Burney Trapp, Essays on the Renaissance and the Classical Tradition (Aldershot, 1990), no. IV.
, позволила ему, таким образом, создать еще одну, особую версию повествования о собственном изгнании.
Представления о поэтическом творчестве устойчиво ассоциируются у Гейнцельмана с областью сакрального. Это может касаться описания пространственных отношений (необычное сравнение поэта – с реющим серафимом) или литургической символики («Словесные мои солнца, Как пламя тысячи лампад»), священнодействия, строения храма Божьего. Архетипически создание поэтического текста соположено акту Творения, «труду Небесного Отца», роль поэта – роли демиурга.
Другая аналогия сакрального характера, существенно повлиявшая на поэтику Гейнцельмана, описывает функцию поэта в терминах подвижнического служения («монах-затворник я средневековый»). Найдя эквивалентную формулу для своей поэтической деятельности в языке монашеского подвига, он может использовать ее многократно (например, «черноризец Анатолий» в стихотворениях «Аккорды» и «Белые олеандры») или повышать – в том числе и в пределах одного текста («Аккорды») – степень вариации за счет синонимических представлений – «пальмоносец Анатолий» ( palmarius , т.е. паломник), «псалмопевец Анатолий». Такой прием комбинаторики известен по древним орнаментальным образцам «плетения словес»; один из образов поэтического творчества у Гейнцельмана не случайно назван «сплетеньем слов».
Далее, присутствие в том же стихотворении «Аккорды», в первой его строфе, обозначения «крестоносец Анатолий», парадоксально сочетаемого с образом рыцаря, победившего ветряные мельницы, «палицы и дреколья» (sic) и злых змей, включает в ту же сферу сакрального не только иноческий идеал, но и элементы западноевропейской рыцарской традиции [23] Благодаря такому усилению множественности – «Много палиц и дреколий» и ветряным мельницам образ Гейнцельмана, отсылающий уже не к подвигу взявших крест, а к Дон Кихоту, мог бы восприниматься и в пародийном, самоироничном ключе, а его сопряжение с сакральной сферой – как неудача. Однако при своем тяготении к парадоксальным комбинациям и экзотическим оборотам и рифмам Гейнцельман сохранил именно эти выражения, вероятно, ввиду их связи с обширным кругом донкихотовских ассоциаций. Насколько обширны возможности этого образа для русской самоидентификации, показано в замечательном исследовании: Багно В.Е. Дон Кихот в России и русское донкихотство. СПб., 2009.
. Дальнейшим ее распространением становится тема поиска св. Грааля. Аналогией пересечения этих двух семантических рядов может служить статья Александра Блока «Рыцарь-монах», посвященная памяти Владимира Соловьева. К той же мифологеме следует отнести, конечно, и «менестреля» из упомянутой выше автоэпитафии Гейнцельмана. Как мы видим по стихотворению «Грааль любви», этот сакральный образ получает у него интерпретацию в биографическом контексте. Для описания пути через сферы (Данте – Беатриче) здесь снова появляется мотив метаморфоз; завершением пути становится встреча «в святом Париже», которая оказывается и апофеозом («На троне ты …») в соборе Notre Dame, имплицируя метафорическое отождествление носителя земного имени (Rosa = жена поэта) с его мистическим прообразом высшего порядка (Rosa mystica = Мадонна).
Мифопоэтические реализации мировосприятия Гейнцельмана не ограничены символикой христианской традиции. Другой мир сакрального предания представлен в ряде стихотворений Гейнцельмана древнеегипетскими мотивами. Пространственная удаленность Египта, погруженная в толщу исторического воспоминания, связывается с воспоминанием об утраченных местах детства и юности в Шабо образом перелетных птиц («Гнездо стрижей»). Повествовательная структура поддерживается изоморфностью двух фигур – стрижа и поэта (что возвращает нас к «профилю птицы» из гейнцельмановской автоэпитафии, «ласточке стрельчатой» и другим метафорам). Описание родных мест намеренно не оставляет сомнения в том, что речь идет именно о Шабо, и целью перелета названа долина Фив, культовый центр почитания Амона (ср. также упоминание фиванского храма Амона – «Как в тихих лотосах Карнак» в стихотворении «Белые олеандры»), и Нил с эпитетами «царица рек» и «река святая». Маркированное пространство между Шабо и Египтом воздействует и на выбор лексики, причем порой Гейнцельман, находясь в плену своего мифопоэтического механизма метаморфоз, допускает в своем словоупотреблении несоответствие христианской конвенции: так, в «Гнезде стрижей» описывается своеобразная реинкарнация птицы, и по отношению к беременной женщине поэт употребляет выражение «К груди пречистой этой девы, К лежащему младенцу в чреве». В дальнейшем описывается двойная метаморфоза – превращение низринувшейся с неба и мертвой птицы в человека, имеющего родиться, превращение «мыслящего тростника» (т.е. исходный и общий дар человеческого мышления), в свирель (т.е. в особый, исключительный дар).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: