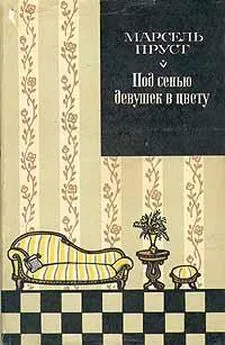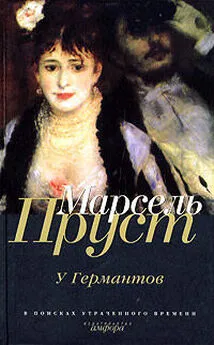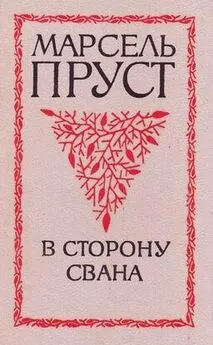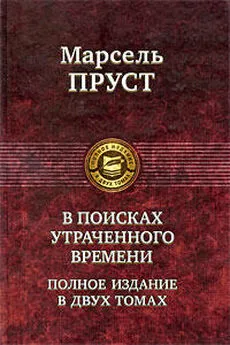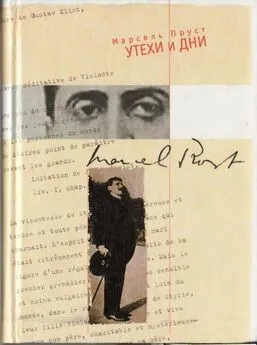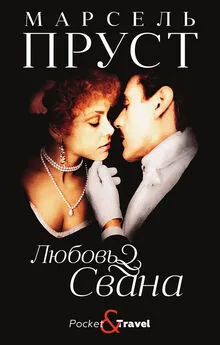Марсель Пруст - Сторона Германтов
- Название:Сторона Германтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18722-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Сторона Германтов краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Сторона Германтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Спускаясь по лестнице, я вновь переживал вечера в Донсьере, зато, когда мы внезапно очутились на улице, там было темно, словно туман погасил фонари, так что их едва можно было разглядеть с двух шагов, и это напомнило мне какой-то давний приезд в Комбре, вечером, когда городок еще был почти не освещен и мы неуверенно пробирались в темноте, сырой, теплой и священной, как в вифлеемских яслях, где еле-еле, не ярче свечи, мерцали редкие огоньки. Как же далеко было от того приезда в Комбре, в непонятно каком году, до ривбельских вечеров, вот только что мелькнувших перед моими глазами поверх занавески! От этого видения меня охватил восторг, который мог бы стать животворным, окажись я в одиночестве, и это уберегло бы меня от многих лет бесполезных блужданий, но нет, я был на них обречен, прежде чем пробудилось незримое призвание, которое и есть предмет моего рассказа. Если бы все это произошло в тот вечер, наш экипаж запомнился бы мне еще больше, чем экипаж доктора Перспье, в котором я сочинил когда-то зарисовку колоколен в Мартенвиле; кстати, некоторое время назад она попалась мне на глаза, я ее поправил и отослал в «Фигаро», правда, безо всякого успеха. Может быть, дело в том, что мы представляем себе прожитые годы не последовательно, день за днем, а в виде воспоминания, застрявшего внутри какого-нибудь утра или вечера и пронизанного прохладой или солнечными лучами, воспоминания, укрывшегося вдали от остального мира, в тени какого-нибудь уединенного, затерянного, неподвижного и отгороженного от мира уголка; а потому мы уже не замечаем, что вместе с внешним миром изменились и наши мечты, и наш характер; мы не видим перемен, которые неощутимо вели нас от одной эпохи нашей жизни к другой, разительно непохожей на предыдущую, а как только окунаемся в какое-нибудь новое воспоминание, относящееся к другому году, то из-за лакун, из-за огромных пластов забвения обнаруживаем между разными годами что-то вроде гигантского перепада высоты, какую-то несравнимость их воздуха и красок, совершенно между собой несовместимых. Но между воспоминаниями, оставшимися у меня поочередно от Комбре, Донсьера и Ривбеля, для меня существовало не просто расстояние во времени, — это было словно расстояние между разными вселенными, состоящими из разного матерьяла. Захоти я запечатлеть тот, из которого, как мне казалось, были высечены мои самые пустячные воспоминания о Ривбеле, мне бы понадобилось отделать вещество, подобное темному и грубому песчанику Комбре, под мрамор в розовых прожилках, внезапно сделать его прозрачным, гладким, холодящим и звонким. Но тут Робер закончил объясняться с кучером и сел рядом со мной в экипаж. Идеи, роившиеся у меня в голове, рассеялись. Ведь идеи — это богини, подчас они снисходят до того, чтобы явиться одинокому смертному на повороте дороги, или даже у него в комнате, пока он спит: остановившись в дверном проеме, они возглашают ему благую весть. Но когда мы вдвоем с другом, они исчезают, в скоплении народа их никто никогда не видит. И я оказался отброшен в дружбу.
Робер с самого начала предупредил меня, что на улице сильный туман, а пока мы беседовали, он сгустился еще больше. Это была уже не та легкая дымка, что в моих мечтах должна была окутать нас с г-жой де Стермариа на острове. Фонари исчезали в двух шагах, и наступала тьма, такая же непроглядная, как в полях, в лесу или даже на каком-нибудь влажном и теплом бретонском острове, на который мне хотелось попасть; я чувствовал, что заблудился, словно на берегу северного моря, где, пока доберешься до уединенного постоялого двора, двадцать раз окажешься на волосок от смерти; туман из желанного миража превратился в опасность, которую необходимо превозмогать, и, прежде чем найти верный путь и добраться до места назначения, мы принялись преодолевать препятствия, бороться с тревогой и наконец возликовали, как ликует растерянный и сбитый с толку странник, почувствовав себя в безопасности, о которой так мало думают те, кто ничем не рискует. И только одно чуть не развеяло мою радость во время нашей рискованной поездки, так что я удивился и пришел в раздражение. «Знаешь, я рассказал Блоку, — сказал Сен-Лу, — что ты его недолюбливаешь и считаешь пошляком. Просто я люблю, чтобы все было ясно», — безапелляционно заключил он с довольным видом. Я был потрясен. Я ведь бесконечно доверял Сен-Лу, верил в незыблемость его дружбы, а он предал ее, пересказал Блоку мои слова, но главное, мне-то казалось, что от такого предательства он должен был удержаться не столько благодаря своим достоинствам, сколько по причине недостатков, в силу невероятной своей воспитанности, из-за которой вежливость в нем граничила с некоторой неискренностью. И что значит этот победительный вид — желание замять известную неловкость, которую испытываешь, зная, что совершил нечто неподобающее? Неосмотрительность? Глупость, которая возводит неведомый мне у него порок в добродетель? Мимолетную вспышку раздражения на меня, желание от меня отстраниться? Или сигнал о мимолетной вспышке раздражения на Блока, желание сказать ему что-нибудь неприятное, даром что это меня порочит? Вдобавок, пока он произносил эти вульгарные слова, лицо его исказила безобразная извилистая складка — я видел такую у него на лице раз или два в жизни, — она спускалась примерно от середины лица к губам и искривляла их, придавала им на миг чудовищно подлое, чуть не скотское выражение, несомненно, унаследованное от предков. Вероятно, в такие минуты, наступавшие никак не чаще чем раз в два года, его собственное «я» отчасти затмевалось вспыхнувшей на мгновение личностью какого-то пращура. Его слова «люблю, чтобы все было ясно», точно так же, как его самодовольный вид, наводили на ту же мысль и были достойны такого же осуждения. Я хотел ему возразить, что тому, кто любит, чтобы все было ясно, следует быть откровенным, говоря о самом себе, а не блистать добродетелью за счет другого человека. Но экипаж уже остановился перед рестораном; его фасад с огромными, ослепительно освещенными окнами был единственным ярким пятном во мраке. Изнутри лился уютный свет, и сам туман, казалось, с восторгом слуги, предугадывающего желания хозяина, указывал вам путь через тротуар к входу; он лучился самыми нежными оттенками радуги и вел вас к дверям, как огненный столп вел евреев. Кстати, среди посетителей их было много. Именно в этот ресторан долго ходили Блок и его друзья, опьянев сильнее, чем от ритуального поста, который бывает все-таки только раз в год, но их-то гнал сюда ежевечерний пьянящий голод по кофе и новостям политики. Кто стремится подхлестнуть в себе деятельность ума, превыше всего ценит привычки, связанные с этой деятельностью, поэтому всякое сколько-нибудь любимое пристрастие объединяет вокруг себя людей в подобие сообщества, и каждый в этом сообществе уважает эту общую для всех и столь важную для всех привычку. Например, в каком-нибудь провинциальном городке живут люди, страстно влюбленные в музыку; они проводят лучшие минуты своей жизни — и тратят бóльшую часть денег — в концертах камерной музыки, в собраниях, где беседуют о музыке, в кафе, куда сходятся меломаны, чтобы посидеть бок о бок с оркестрантами. А другие обожают авиацию; им важно хорошее отношение старого бармена, чье застекленное заведение высится над аэродромом; там, надежно укрытый от ветра, словно в стеклянной клетке маяка, в компании авиатора, у которого вот сейчас нет полета, наблюдатель следит за маневрами какого-нибудь пилота, выполняющего мертвые петли, и за тем, как другой, мгновение назад невидимый, внезапно идет на посадку и приземляется с грохотом, достойным крыльев птицы Рух [233] Птица Рух — огромная сказочная птица, на которой летал Синдбад-мореход в сказке из «Тысячи и одной ночи».
. Ну, а небольшая компания, собиравшаяся ради попытки продлить и раздуть мимолетные эмоции, обуревавшие их на суде над Золя, придавала огромное значение этому кафе. Но на нее косились остальные завсегдатаи, молодые аристократы, облюбовавшие второй зал кафе, отделенный от первого только тонким барьерчиком, увитым зеленью. Дрейфуса и его сторонников они считали предателями, хотя спустя лет этак двадцать пять, когда понятия уже уточнятся и дрейфусарство приобретет в истории ореол изысканности, сыновья этих самых молодых аристократов, ценители большевизма и вальса, будут рассказывать «интеллектуалам», донимающим их расспросами, что да, разумеется, если бы они жили в то время, то были бы за Дрейфуса, даром что дело Дрейфуса представляли себе немногим лучше, чем графиню Эдмон де Пурталес или маркизу де Галифе и прочих блистательных красавиц, чья слава померкла еще до их рождения [234] …графиню Эдмон де Пурталес или маркизу де Галифе… слава померкла еще до их рождения . — Флоранс-Жоржина, маркиза де Галифе (1842?–1901) — жена генерала Галифе, не раз привлекала внимание Пруста своей красотой и элегантностью: он упоминает ее в статье «Литературный праздник в Версале» и в своем предисловии к книге Жака Эмиля Бланша «От Давида до Дега: рассказы художника».
. Но в тот туманный вечер сидевшие в кафе аристократы, будущие отцы молодых интеллектуалов, которые задним числом окажутся дрейфусарами, были еще даже не женаты. Конечно, семьи каждого из них строили планы, как бы найти отпрыску богатую невесту, но пока все они были холостяками. Выгодный брак оставался целью, к которой стремились сразу многие (богатых невест на примете у их родных было немало, и все же огромных приданых оказывалось куда меньше, чем охотников за ними), и только сеял между молодыми людьми некоторое соперничество.
Интервал:
Закладка: