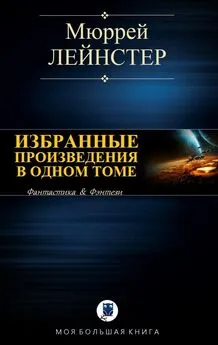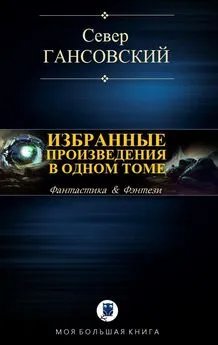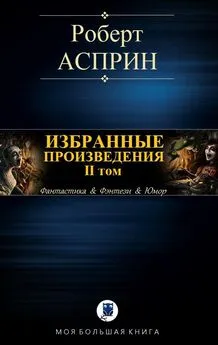Асорин - Асорин. Избранные произведения
- Название:Асорин. Избранные произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00347-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Асорин - Асорин. Избранные произведения краткое содержание
Асорин. Избранные произведения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иначе и быть не могло: писатели, стремившиеся точно передать действительность, не могли не подчеркнуть самую выразительную сторону вещей — цвет.
В знойный полдень под козырьком крыши ветхого дома лежит узкая полоска тени. На внутренней площади дворца в светлые часы дня резкая черта отделяет затененное пространство от залитого солнцем. Но где, на севере или в Леванте? Наверное, в Леванте — там ярче свет, и оттого гуще тени. Но многие ли разглядят голубые отсветы тени под козырьком или на площади? Нет, лишь тот, в ком развит дар художника, умение вдохновляться прекрасным — только тот способен заметить множество тончайших оттенков света и тени.
Цвет — источник впечатлений для прозаика и поэта. Так было всегда, и тому есть замечательные примеры. Для Лопе де Веги щечки красивой девушки — «как розы алой лепестки, в нежнейших сливок чашу упавшие». Кармин и белизна. Но лишь в наш век цвет сам по себе стал эстетической ценностью. Лишь в наше время стали говорить о колорите повествования. Такая странная похвала не пришла бы в голову критику XVII века.
Ну, а каков же колорит современной прозы? Какими средствами передают цвет вещей и событий писатели 1898 года? Даже говоря о живописи, до сих пор не установили, что такое колорит и как его обнаружить. У Сулоаги он есть? А у Сорольи? И если да, то был ли этот колорит у реального пейзажа или предмета, запечатленного художником? Решение знал еще Дидро, сказавший: восприятие цвета зависит от субъекта. Художник и писатель могут найти определенную окраску там, где ее не было, могут подчеркнуть ее или приглушить. Субъективность восприятия порождает противоречивые и взаимоисключающие оценки. Отсюда и споры между критиками.
Теоретические рассуждения Дидро на эту тему заслуживают, чтобы их процитировали in extenso [86] Полностью ( лат. ).
. Мы приводим их по первому изданию его книги «Essais sur la peinture» [87] «Опыт о живописи» ( фр. ).
(Париж, 1795 г., стр. 17 и 18):
«Но почему столь немногие художники умеют изображать предмет, который доступен пониманию всех? Откуда это обилие колористических манер, тогда как цвет в природе один? Причина этого в свойствах самого органа зрения. Нежный и слабый глаз не любит живых и ярких красок — и живописец отказывается запечатлеть на полотне то, что в природе ранит его восприятие. Он не любит ни огненно-красного, ни ослепительно белого. Подобно обоям, которыми он покроет стены своей комнаты, его полотна будут окрашены слабыми, нежными и мягкими тонами, он будет стремиться гармонией восполнить недостаток силы. Но почему бы и характеру, даже мимолетному настроению человека не влиять на колорит? Если мысли художника грустны, сумрачны и темны, если в его меланхолическом воображении и в мрачной мастерской неизменно царит ночь, если изгоняет он день из своего жилища, если ищет он одиночества и мрака, разве не вправе мы ожидать от него сцены, быть может, и сильной, но темной, тусклой и сумрачной? Если художник страдает разлитием желчи и видит все в желтом свете, как ему удержаться и не набросить на свою картину то желтое покрывало, какое набрасывает его больной орган на все видимое, пусть даже он огорчится, сравнивая зеленое дерево, явившееся ему в воображении, с деревом желтым, — тем, что видят его глаза?» [88] Перевод Н. Игнатовой.
Поколение 98 года увидело цвет там, где его не видели ранее. Как и резкий испанский контраст света и тени. Да, есть свой цвет у Эль Греко и свой — у Риберы. Я еще напишу несколько страниц, которые озаглавлю: «Одежда на веревке в Толедо». Когда в музее Прадо переходишь от Риберы в один из тех двух залов, что сейчас занимает Эль Греко, то впечатление — тем более сильное при моей близорукости — таково, будто перед глазами замелькало пестроцветье развешанных сушиться одежд. Вот она, живопись Эль Греко: яркие шелковые платья, верхние и нижние юбки, простыни и покрывала, вывешенные рядами на дворах и галереях, на балконах и пустырях. Ткань, трепещущая на ветру, залитая солнечным светом или оттененная свинцово-серым небом. Все переливы красного, белого, голубого, желтого, зеленого, водоворот цветов… Зато у Риберы есть свет и тень. Майянс пишет о Рибере в своем «Искусстве живописи» (1774 г.): «Он подбирал сюжеты, позволявшие ему сосредоточить все внимание на рельефности фигуры, как бы выступавшей из ночного мрака». В моих бумагах хранятся заметки 1898 года о беседах с Лоренсо Касановой. Касанова — художник из Аликанте, учившийся в Италии, а позже возглавивший одну не слишком известную школу живописи. Вот что он рассказывал: «Рибера ставил натурщиков в полутемной комнате так, чтобы на них падала лишь струйка света. Сам он садился в соседнем помещении и писал, поглядывая на модель в щелку». Все приведенные выше цитаты вполне применимы к той литературе, которую создавало славное поколение 98-го.
ЛУНА В ТОЛЕДО
Перевод А. Садикова
Как-то в декабре 1900 года мы поехали на два-три дня в Толедо, где остановились на постоялом дворе — старом и не без претензий. Я говорю «не без претензий» потому, что ныне редко где увидишь на постоялом дворе большой круглый стол, непременную принадлежность старинных придорожных трактиров, — так вот, здесь круглый стол был. Покрытый, сами понимаете, клеенкой.
За этот-то стол и сели мы обедать в компании возчиков, барышников и землепашцев.
— А вы, часом, не из Мадрида, дружище? — спросил меня сидевший рядом человек.
— А вы, наверное, будете из Ильескаса, Сонсеки или Эскалоны?
— Из Сонсеки, сеньор, к вашим услугам.
Из «дружища» я вдруг стал «сеньором». «Дружище» было проще и сердечней. Так называют в Кастилии любого встречного. Дружище, друг, товарищ… На проселочных дорогах Ламанчи едет тебе навстречу какой-нибудь крестьянин, завернувшись, если дело зимой, в свой бурый шерстяной плащ, и обязательно приветствует тебя: «Бог в помощь, товарищ!» Все собравшиеся в толедской гостинице — крестьяне, торговцы, рассыльные и мы вместе с ними — были товарищами. Чистоте языка этих людей, пришедших сюда с полей и деревенских улочек, чистоте их испанского языка мог бы позавидовать любой пурист… если только у пуристов и в самом деле есть чувство родного языка.
Улочки и улочки… После долгой ходьбы — передышки на маленьких пустынных площадях. Вот, показалось, скрипнули жалюзи монастырского окошка. За ними, быть может, пара глаз, провожающих нас взглядом среди этого безлюдья. Еще немного — и мы в Больнице Святого Креста, одном из красивейших мест Толедо, у надгробия кардинала Таверы. Это изваяние — прекраснейшее из творений Берругете. В литературе нет образа, равного ему по скорби и трагизму. Весь ужас смерти запечатлен в остром профиле кардинала, чья лежащая мраморная фигура венчает надгробие. Небытие — безысходное и непререкаемое nihil [89] Ничто ( лат. ).
— предстает перед нами в очертаниях этого костистого носа, такого, каким он становится у покойника через два дня после смерти. В «Хронике деяний кардинала Таверы» (изданной в Толедо в 1603 г.) Педро Саласар-и-Мендоса сообщает, что кардинал не позволял художникам изображать себя — все дошедшие до нас портреты были созданы уже после смерти Таверы или самим Берругете, или по его поручению. Судя по портретам, лицо у кардинала было несколько удлиненное, глаза зеленые, раскосые, руки — белые, с узкими длинными пальцами.
Интервал:
Закладка:
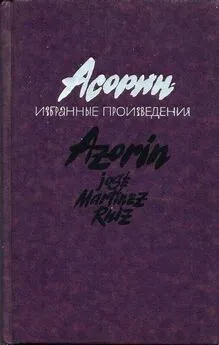

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)
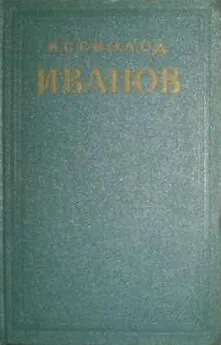

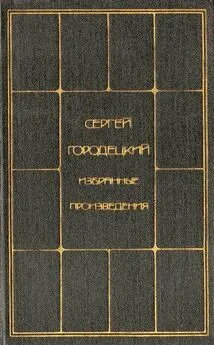
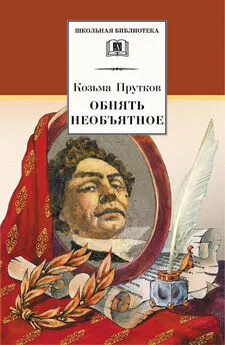
![Франсис Карсак - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/1060560/fransis-karsak-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome.webp)