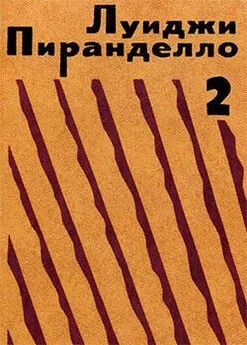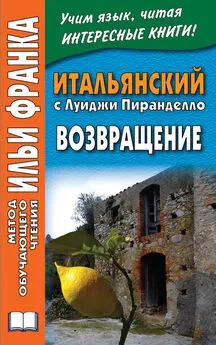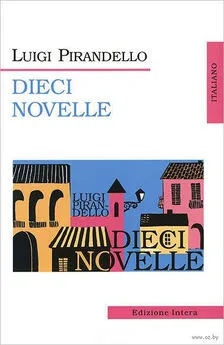Луиджи Пиранделло - Кто-то, никто, сто тысяч
- Название:Кто-то, никто, сто тысяч
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Луиджи Пиранделло - Кто-то, никто, сто тысяч краткое содержание
Кто-то, никто, сто тысяч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он стоял на самом ветру и вокруг его худого тела — такого худого, что без дрожи нельзя было смотреть! — развевалось красное шерстяное одеяло, которое он накинул на плечи, придерживая его на груди скрещенными руками. И он смеялся, смеялся, хотя слезы блестели в его испуганных глазах, а над головой у него взлетали, как языки пламени, длинные пряди рыжих волос.
Это видение так меня поразило, что я не выдержал и указал на него Монсиньору, перебив его чрезвычайно серьезную речь об угрызениях совести, которую он произносил уже довольно долго и с видимым удовольствием.
Монсиньор едва обернулся, чтобы взглянуть, и, с одной из тех улыбок, что с успехом заменяют вздох, сказал:
— А, этот! Так это бедняга сумасшедший, что там живет!
И сказал он это так равнодушно, словно о чем-то ставшем ему давно привычным, что мне захотелось заставить его вздрогнуть, заметив: «А вы знаете, он не там. Он здесь, Монсиньор! Сумасшедший, который хотел бы летать, это я».
Но я сдержался и не сказал этого. Больше того, я спросил с таким же, как и у него, равнодушным видом:
— А нет опасности, что он свалится с балкона?
— Нет, он так уже много лет… И он безобидный, совсем безобидный…
И тут против воли у меня вырвалось:
— Совсем как я!
Так что Монсиньору пришлось-таки вздрогнуть. Но я тотчас же обратил к нему свое лицо — такое спокойное, такое улыбающееся, и он тут же овладел собой. Я объяснил ему, что и я тоже не приношу ни малейшего вреда ни синьору Кванторцо, ни синьору Фирбо, ни моему тестю, ни моей жене — в общем, никому из тех, что хотели бы учредить надо мною опеку.
Успокоенный Монсиньор снова вернулся к разговору об угрызениях совести, который, по его мнению, был наиболее подходящим для моего случая и к тому же единственным, посредством которого он, опираясь на свою духовную власть и влияние, мог воздействовать на козни и происки моих врагов.
Так мог ли я ему сказать, что в моем случае речь идет вовсе не об угрызениях совести, что это ему только кажется?
Если бы я рискнул ему это объяснить, и я в его глазах тут же стал бы сумасшедшим.
Бог, который жил во мне и который хотел забрать деньги из банка, чтобы меня перестали называть ростовщиком, этот бог был врагом всякого строительства. А бог, к чьей помощи и покровительству я сейчас прибегал, как раз только и делал, что строил. Он, конечно, протянет мне руку, чтобы помочь получить деньги, но с условием, что на эти деньги будет построен по крайней мере один дом для второго из наиболее почтенных человеческих чувств — я имею в виду любовь к ближнему.
В конце нашей беседы Монсиньор спросил меня с торжественным видом, не этого ли я хочу.
Мне пришлось ответить, что именно этого.
Тогда он позвонил в серебряный колокольчик, надтреснутый, почерневший от времени, который до того скромно и неприметно лежал у него на столе. Появился молодой служка, белокурый, очень бледный. Монсиньор приказал ему позвать дона Антонио Склеписа, каноника кафедрального собора и директора сиротского приюта, который ожидал в коридоре. Это и был тот человек, который был мне нужен.
Этого священника я знал больше по слухам, чем лично. Хотя как-то раз я ходил к нему по поручению отца, относил письмо в приют. Здание приюта, расположенное неподалеку от епископского дворца в самой высокой точке города, старинное, просторное, квадратной формы, потемневшее и облупившееся снаружи под действием времени и непогоды, внутри сияло белизной, было полно воздуха и света. Сюда свозили неимущих сирот и незаконнорожденных детей в возрасте от шести до девятнадцати лет со всей округи и обучали их тут разным искусствам и ремеслам.
Порядки в приюте были такие суровые, что когда несчастные воспитанники пели во время утренней и вечерней службы под аккомпанемент церковного органа свои молитвы, то снизу, из города, это пение казалось жалобными стонами узников.
Хотя по внешнему виду Склеписа нельзя было сказать, что он так уж властен, суров и энергичен. Этот высокий худой священник, казалось, светился насквозь, как будто свет и воздух холма, на котором он жил, не только обесцветили, но словно бы проредили его тело, так что дрожащие его руки сделались хрупкими до прозрачности, а веки, прикрывавшие светлые миндалевидные глаза, стали тоньше луковичной шелухи. И такой же дрожащий и бесцветный был у него голос, и такая же пустая и неуловимая улыбка длинных бледных губ, между которыми то и дело мелькал белый сгусток слюны.
Едва войдя и услышав от Монсиньора о мучивших меня угрызениях совести и моих планах, он тут же зачастил, хлопая меня по плечу, говоря мне «ты» и вообще обращаясь со мной с большой фамильярностью:
— Вот и прекрасно, вот и прекрасно, сын мой! Большое страдание — это же замечательно! Благодари за него бога. Ты спасешься страданием, сын мой. Те дураки, которые не желают страдать, заслуживают самого сурового наказания. Но ты, на свое счастье, много страдаешь, да ты и должен страдать при мысли об отце, который, бедняга… э… да, причинил много зла… да, бедняга… Пусть твоими веригами будет мысль о твоем отце! Вот твои вериги. А борьбу с синьором Фирбо и синьором Кванторцо предоставь мне. Они хотят учредить над тобой опеку? Будь покоен, я все устрою.
Я вышел из епископского дворца с уверенностью, что одержал победу над всеми, кто собирался учредить надо мной опеку; но эта уверенность и обязательства, которые из нее вытекали, обязательства, которые я взял на себя перед епископом и Склеписом, снова вышвырнули меня в безбрежное море неуверенности: теперь, когда я начисто разорен и лишен положения и семьи, что же со мной теперь будет?
8. В ожидании
Теперь у меня не оставалось никого, кроме Анны Розы, а она хотела, чтобы я был подле нее во время ее болезни.
Анна Роза лежала в постели с забинтованной ногой: она говорила, что не встанет, если, как до сих пор опасались врачи, останется хромой.
Бледность и вялость от долгого лежания сообщили ей новое очарование, иное чем раньше. Глаза у нее теперь блестели ярче, и этот блеск был мрачен. Она говорила, что совсем не спит. По утрам она задыхалась от запаха собственных волос — густых, сухих, слегка вьющихся, распущенных и свалявшихся за ночь на подушке. Если б не отвращение, которое она испытывала при мысли о руках парикмахера, прикасающихся к ее голове, она бы их обрезала.
Как-то утром она спросила, не могу ли я их обрезать. И, посмеявшись над моим замешательством, натянула на лицо край простыни, и так и осталась лежать, молча, спрятав лицо.
Под простыней вызывающе обрисовывались формы ее тела, тела зрелой девственницы. Я знал от Диды, что ей уже двадцать пять. Конечно, лежа вот так, с закрытым лицом, она знала, что я не могу не видеть ее тела, обрисовывающегося под простыней. Она меня искушала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: