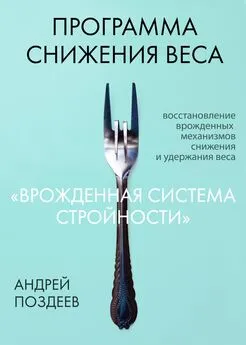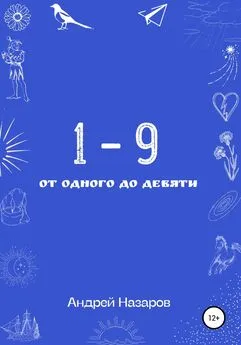Андрей Назаров - Эшлиман во временах и весях
- Название:Эшлиман во временах и весях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый Берег
- Год:2009
- Город:Дания
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Назаров - Эшлиман во временах и весях краткое содержание
Эшлиман во временах и весях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Предположение поэта оправдалось. Загнутая в другую сторону, партийная линия вскоре ощутимо сдавила горло разного рода предсказателям, и уже со следующего года в песнях Высоцкого появляется мотив перехваченного горла, хрипения и страха, вызванного погружением общества в духовный вакуум. «Спасите наши души, мы бредим от удушья» («SOS», 1967). Перебои с дыханием начинают ощущать различные слои общества, и представители их простодушно подписывают обращения к князю с просьбой урезонить дружину, которая гнет замечательную княжескую линию совсем не в ту сторону.
Но дружина уже подобралась в седлах, тронула своих гнедых коней — и та же неистовая страсть к жизни, что и в песнях о войне, то же гибельное напряжение, тот же отчаянный крик обозначили происходящее как кровавую бойню на заснеженном поле, облаву, «Охоту на волков» (1967).
Как всякое произведение, задевшее жизненный нерв нации, эта песня, кажется, не могла быть не написана — так мгновенно она была узнана и принята народом как его собственный опыт, как собственное метание под ружейными дулами. «…Володя Высоцкий впервые пел “Охоту на волков”, — вспоминает Ю. Любимов. — Когда он закончил, то я думал, что театр рухнет, — зал просто с ума сошел!». И не один зал, как скоро выяснилось.
Антропоморфизм песни настолько очевиден, что дошел даже до сознания «ответственного товарища», воскликнувшего в беседе с ее автором: «Да это ж про меня, про нас про всех, какие к черту волки» («Ответ на песню “Охота на волков”», 1972). На незавидное, казалось бы, место окровавленных волков претендуют, впрочем, не только партийные функционеры, но и представители чуть ли не всех социальных, политических, профессиональных и этнических групп общества.
Тема духовного бунта, определяющая внутренний строй поэзии Высоцкого, заставляет видеть в избиваемых волках носителей стихийной свободы — «детей войны, да и ежовщины», которым он посвятил столько песен. Общая память, общая причастность к поре жизни, определяющей облик поколения и давшей импульс поэзии Высоцкого, звучат в его горестном, безответном крике: «Где же ты, желтоглазое племя мое?». В общих истоках жизни находит он причину безнаказанного избиения вольных детей улицы, — в родовом запрете выбора, в материнском табу, сковывающем возможность сопротивления:
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: «Нельзя за флажки!»
На всем отмеренном ему творческом пути Высоцкий настойчиво возвращается к рано определившейся судьбе своего поколения — значительной его части, преодолевшей эту наследственную покорность. Рано повзрослевшие дети войны, сверстники Высоцкого, вынесли из хлебных очередей простой и беспощадный взгляд на жизнь, научились отстаивать себя и отбились от рук своих зануженных беспросветным трудом и страхом матерей. Они ощутили войну как потрясение рабских устоев бытия, как возможность человеческого взлета — и тем приведены были к безвестной гибели, рассеяны «пылью по лучу». Со своими ножами из напильников и заточенными гвоздями им и деться было некуда, как только в колонии или лагеря, но они разорвали круговую поруку страха и подлости и потому не вышли в пионерские, комсомольские или партийные бюрократы, и погибать были заклеймены — ворами.
Другие, кто избежал этой судьбы, кому нравственное чувство закрыло возможность ответить ножом на насилие, составили правовую, культурную, нравственную оппозицию власти, во многом определившую общественное мнение послесталинской эпохи. И они, рано или поздно, изымались из советской жизни по нестираемой мете непримиримости, сложившей их судьбы и песни, — того, что заставляет волка выйти из повиновения и «рваться из всех сухожилий» за обложившие флажки.
Ценности человеческого бытия, очищенного от идеологической шелухи «богомерзких сказок», сложили духовный облик «единственного поколения русских, нашедшего себя» (И. Бродский) — «книжных детей», «романтиков» Высоцкого, пытавшихся отстоять свою внутреннюю свободу. Стихийная попытка их обреченного бунта прорвалась в песнях Высоцкого, в его «отчаянием сорванном голосе», поведавшем о судьбе поколения «волчат», распыленного лагерями, изгнанием, ранней гибелью:
Мои друзья ушли сквозь решето,
Им всем досталась Лета или прана,
Естественною смертию — никто,
Все — противоестественно и рано.
(«Я не успел», 1977)
Жертвы охоты — не только волки. Кольцо облавы захватывает и кабанов («Охота на кабанов», 1968), и лебедей («Охота на лебедей», 1975), и вообще всю фауну («Заповедник», 1972). Жизнь во всех ее проявлениях оцеплена красными флажками идеологии и затравленно мечется под дулами «полупьяных стрелков».
Песня «Охота на волков», точнее, ее первая часть — это и последняя песня Высоцкого об охоте, где гонимый побеждает, вырывается из зоны, оцепленной флажками. Вторая часть песни, «Охота с вертолетов, или Где вы, волки?» (1977) написана спустя десять лет, после которых не осталось надежд. Песня открывается ударной метафорой: «Словно бритва, рассвет полоснул по глазам», — действие ясно обозначено как подлая бандитская акция. На заснеженном пространстве бойни уже нет красных флажков; идеологическая граница ландшафта совпадает с государственной. «Протухшая река» в песне Высоцкого указывает на почтенный возраст этого рубикона: с другого, с «того берега» этой реки взирал на Россию еще Герцен в середине прошлого века. «Те, кто жив, — затаились на том берегу», удрав от очередного избиения. Это избиение носит выборочный характер: те, кто «ползли по-собачьи хвосты подобрав», остаются целы, бьют «улетающих — в лет, убегающих — в бег». Жизнь «лебедей высокого полета» и «сильных птиц» обрывается «в зените, на взлете». Взлет у Высоцкого — метафора духовного распрямления, собственно человеческая способность, которая как раз и служит мишенью охотников.
«Охоты» призваны изменить духовную природу человека с ее способностью к взлету и побегу за флажки, выработать «новую историческую общность людей». Процесс насильственного преобразования «живых людей, скрытых врагов нашего народа» (И. Сталин) обнажен до его кровавой сути извращения природы, закабаления вольных существ в охранников, в псов, натасканных на человека.
Жизнь, сохраненная ценой утраты свободы и духовного облика, — это, по Высоцкому, существование в псах, в бессловесности. Образцовый советский человек, жертва и порождение тотального насилия, вполне традиционно ассоциируется у Высоцкого с псом. Усилиями М. Булгакова («Собачье сердце») и Г. Владимова («Верный Руслан») разработка этого человеческого типа значительно обогатила образы собак со времен «Каштанки» и «Белого пуделя». Когда-то свободные существа («отдаленная наша родня»), псы занимают теперь место в аппарате насилия, и место это точно обозначено Высоцким. Не вступая в прямую схватку с волками, они «лают до рвоты», что указывает, быть может, на их преимущественное использование в словесном жанре, в той идеологической травле, которую они из соображений престижа называют «борьбой».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

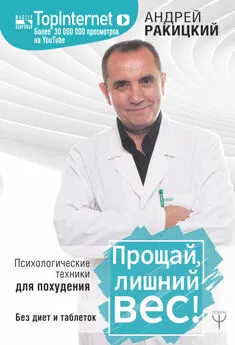
![Андрей Мартьянов - Вестники времен: Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/1143290/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen.webp)