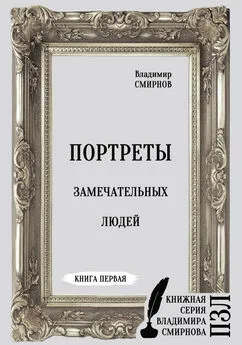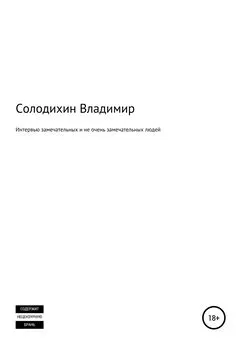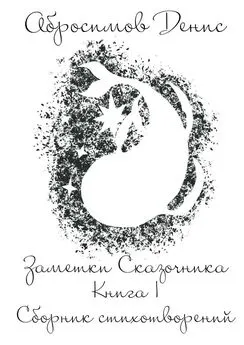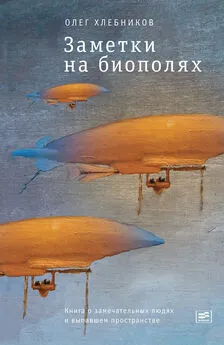Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]
- Название:Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1723-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] краткое содержание
Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Я т-только что с награждения», – ответил Межиров.
Мы поначалу ничего не поняли, хотя на самом деле объяснение было предельно исчерпывающим и откровенным.
Шел карикатурный черненковский год. Упомянутое мероприятие – награждение писателей к пятидесятилетию СП – было уникальным в своем роде. Оно проходило под лозунгом: всем сестрам – по серьгам! – и в общем списке награжденных трудно было не найти хотя бы одного сколько-нибудь заметного (верноподданичеством, талантом или оглушающей бездарностью) автора.
По случаю этого события я сочинил бесхитростное, но абсолютно достоверное четверостишие:
Каждый, кто писать рожден,
Костей жирно награжден.
Только Белла и Булат
Костей этих не едят.
Отказаться от «награды», как это сделали Ахмадулина и Окуджава, Межиров не мог. То ли потому, что не был защищен такой, как у них, популярностью, то ли оттого, что не позволял себе проявлять такую брезгливость. Но и верноподданически благодарить родную партию за щедрость и заботу – тоже не мог.
Он выбрал третье: щетину в Кремлевском дворце.
На следующий день в Литинституте Межиров появился чисто выбритым и, по-моему, даже, что редко с ним случалось, при галстуке.
Я так подробно остановился на этом эпизоде потому, что, мне кажется, такой способ поведения, продемонстрированный им при «награждении», вообще характерен для его бытования в советской литературе.
Собственно, советским поэтом – в чистом виде – он никогда не был, но стальную щетину советского поэта успешно отрастил (и облик его перед глазами двоится).
Возможно, какое-то время Межиров считал эту «приращенную» к лицу маску своей неотъемлемой принадлежностью.
Как бы иначе он написал один из главных гимнов рухнувшей системы? Причем, в отличие от одиозного михалковского текста, написал талантливо. «Коммунисты, вперед!..» – стихотворение настоящее и значительное. Имея в виду именно его, сам Межиров в поздних стихах вынес себе такой приговор:
Когда же окончательно уйду,
Останется одно стихотворенье…
Большой поклонник гиперболы, Межиров этими строчками как бы заклинает: «Чур меня, чур!» И все же «Коммунисты, вперед!..» – сильные стихи (их далеким эхом звучат даже такие межировские строчки: «О, какими были б мы счастливыми, / Если б нас убили на войне…»). А в настоящих стихах, как известно, ни солгать, чтобы не заметили, ни скрыть что бы то ни было невозможно.
Как будто бесспорная истина.
Но один убедительно заикающийся голос мне возражает: что-то из Шопенгауэра цитирует – о том, что артистизм предполагает лживость, поминает русскую пословицу: «На голой правде трава не растет», более того, даже вдохновенно кается:
Что у тебя имелось, не имелось?
Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
Все, что имел, – и молодость, и мелос,
Все на потребу пятистопной лжи.
‹…›
Она меня вспоила и вскормила
Объедками с хозяйского стола,
А на моем столе мои чернила
Водою теплой жидко развела.
И до сих пор еще не забывает,
Переплетает в толстый переплет.
Она меня сегодня убивает,
Но слова правды молвить не дает.
Голос этот принадлежит Межирову.
В отличие от вдохновенного вранья, которое, как правило, сродни хвастовству – этакая ноздревщина – и, в общем, бесцельно, ложь – всегда «во спасение». Классический случай – горьковский Лука и сам Алексей Максимович, которые своей ложью «спасали» окружающих и себя, говоря современным языком, от отрицательных эмоций, – более того, таким легким и доступным способом гармонизировали мир.
Но ложь – только следствие, а причина – страх. «Я не разбивал эту чашку!» – в первый раз лжет ребенок, боящийся наказания.
Какой страх мог преследовать Межирова, в общем, нетрудно догадаться. Человек с гипертрофированным воображением и проницательным умом – при этом прошедший войну и вполне зрелый, бывший уже на виду в годы «борьбы с космополитизмом», видевший, сколь дорогой для миллионов его соотечественников оказывалась цена даже непоэтического слова…
Межирову был отпущен редкий поэтический дар. В поэзии тоже есть объективные критерии – как в музыке для исполнителя: абсолютный слух, чувство ритма… Всего этого, если иметь в виду поэтический мелос, Межирову было отпущено с избытком. Такой дар стоило беречь и защищать.
Но не переусердствовал ли здесь Александр Петрович?
Целиком отдавшись во власть мелоса, невозможно задумываться о последствиях, а куда он выведет – одному только Богу ведомо (впрочем, судьба тех, кто не испугался этого пути, как правило, трагична). Моцарт безмерен. Ограничить его, одернуть, навязать ему благочинную меру все время пытается Сальери.
Кажется, благодаря Межирову мы имеем редкий пример регламентированных (до какой-то степени и до какого-то момента) взаимоотношений Моцарта и Сальери в душе одного человека.
Более того, Межиров, похоже, убедил себя, что эти два начала органичны и необходимы для творчества. И Шопенгауэр с его определением артистизма, сущностного для любого искусства, очень пригодился Александру Петровичу. И все же…
Когда Межирова спрашивали – а это было при мне не один раз, – что для него главное в поэзии, он всегда отвечал: боль (а критерий – звук, мелос). Другим определяющим словом было пафосное: исповедальность. Это для Межирова синоним поэзии. Но как же тогда неплодотворная «голая правда», на которой трава не растет, вместе с Шопенгауэром?
Однажды я позвонил ему из автомата по небольшому делу. Тем не менее мы проговорили добрых полчаса, говорил, собственно, в основном Александр Петрович. Ему был нужен слушатель, которому хотя бы не чужд предмет разговора. А речь шла о любимых мной, как и многими читателями русской поэзии, стихах Тютчева «Вот бреду я вдоль большой дороги…». Телефонное эссе Межирова сводилось к тому, что великим это стихотворение делает не только сила чувства, испытываемого автором, но и упоение силой собственного чувства, также выраженное в стихах. Тогда я согласился с Александром Петровичем (почти с восторгом!). Позднее подумал: но какое же тогда это лукавство! И ведь не кто иной, как Тютчев, сказал про ложь изреченной мысли. Но, может быть, еще страшней: ложь выраженного чувства! Неужели сам факт нанесения на лист бумаги бледной проекции своего действительно испытанного сильного переживания содержит в себе неизбежную ложь? Означает какую-то очень опасную игру с самим собой?
Неужели стихи, и прежде всего «болевые», это всегда в чем-то лукавая исповедь? В межировской системе координат пожалуй что так.
Другой путь сформулировал Пушкин: «поэзия… должна быть глуповата». Быть может, это и есть наилучшая защита от лукавого, который, как известно, «всегда около монастырей бродит»: над бездной легче всего пройти, не увидев ее. А чтобы в бездну не засмотреться, необходимо или счастливое легкомыслие, позднейший пример – «Я приучил поэзию к игре» (Д. Самойлов), или жесткое самоограничение, почти тупое следование тому, во что веришь или хочешь верить: «Но верен я строительной программе… / Прижат к стене, вися на волоске, / я строю на плывущем под ногами, / на уходящем из-под ног песке» (Б. Слуцкий).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)
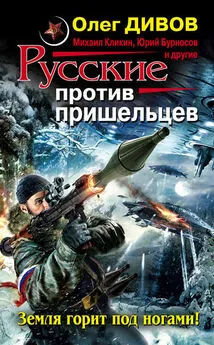
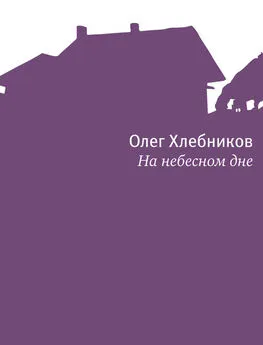
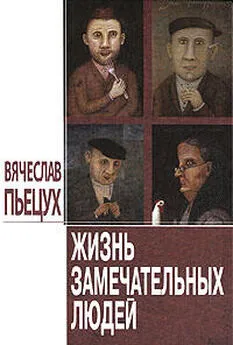
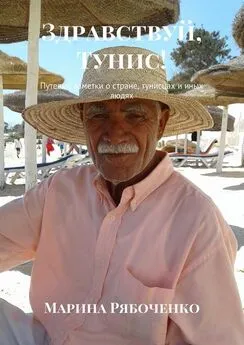
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/1061578/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/1147779/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli.webp)