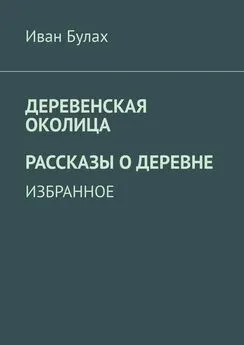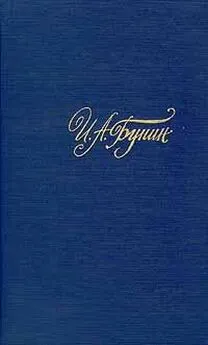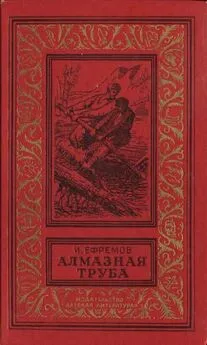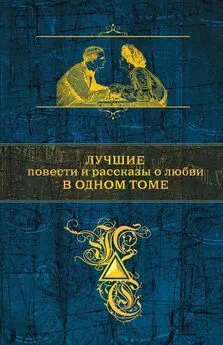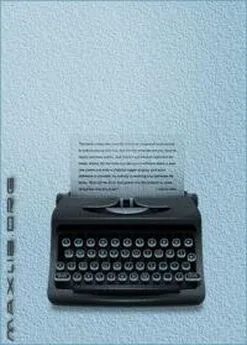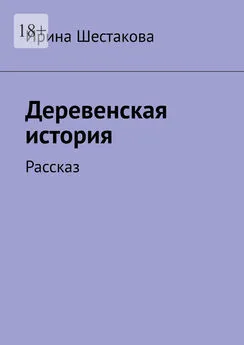Иван Булах - Деревенская околица. Рассказы о деревне
- Название:Деревенская околица. Рассказы о деревне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Булах - Деревенская околица. Рассказы о деревне краткое содержание
Автор этой книги продолжает традиции В. М. Шукшина: он тоже «деревенщик», а наблюдательности ему не занимать. Он говорит живым и самобытным языком простого народа, который в деревне духовно чище и меньше испорчен.
Деревенская околица. Рассказы о деревне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— За ради Христа, прошу! Отпустите хучь парнишку! — И тыкал в сторону бледного, перепуганного Назарки.
Бородатый казак наехал грудью коня, стал его оттеснять, огрел плетью и заорал: «Чего на рожон лезешь? Уходи, дура!»
— Давай и его, заодно уж, — махнул рукой офицер, и казак погнал деда в круг, где сбились коммунары.
А потом на солнце молниями полыхнули клинки… Шашки с цоканьем впивались в человеческую плоть, кони плясали под седоками и храпели от запаха крови. Крик, мат, конское ржание. Казаки привставали на стременах и с выдохом: «Э-эх!», рубили, рубили и рубили, а от вида крови только сатанели…
Назарку Пахом старался закрыть собой, теснил его в центр круга и всё кричал казакам:
— Да люди вы или звери? Не троньте малого! Ему ещё нет и… — не успел докончить Пахом, — самого развалили чуть ли не до пояса. Назарка в ужасе закричал и кинулся к берёзкам, что столпились возле яра. Не успел. Сзади послышался конский топот, храп и это страшное с выдохом: «Э-эх!»
Хоронили коммунаров всем миром, плач и крик стоял над селом. Двор Кочергиных беда пометила сразу тремя чёрными крестами. Жена убитого Пахома стояла на коленках у гроба изуродованного сына Назарки и обливалась слезами. Старушка Лукинишна стояла молча между гробами мужа и сына. Слёз у неё не было — все выплакала, лишь беззвучно шевелила губами… Хоронили в братской могиле. Мужики-старожилы долго помогали многодетным семьям коммунаров, но в том, что случилось, не сожалели. Семьям помогали просто, по христиански. Не раскаивались они и тогда, когда многих увозили в болота Васюганья.
Сами они не убивали коммунаров, но помогли тем, что указали на самых активных пришлых поселенцев от «диктатуры пролетариата». Это сейчас, с высоты лет стало ясно, кто был настоящий враг. А тогда вся Россия встала на дыбы, брат шёл на брата, попробуй тут разберись. И ещё это пугающее, — «коммуна!», которая посягала на вековой крестьянский уклад.
Печальное известие дошло до Питера только через месяц, а когда улеглись страсти, приехали в Снегирёво рабочие с завода. Привезли колхозу имени Коммунаров в подарок, как в память о своих товарищах, несколько тракторов и набор сельхозинвентаря. На месте казни установили временный памятник, а новый поставили уже гораздо позже.
После войны у памятника разбили клумбы, заасфальтировали площадку и дорожки. Огнём горели красные гвоздики, пели птицы. Здесь всегда принимали в пионеры, молодым трактористам-хлеборобам вручали документы. Это было святое место.
В конце столетия пришла новая власть и всё поменялось. Сейчас тут запустение. Всё заросло бурьяном, асфальт вспучили корни деревьев. Беспризорная ребятня обезобразили памятник, выкололи глаза. Над коммунарами глумились уже второй раз.
Местная администрация стыдливо отмалчивалась. Потом по приказу, чуть ли не тайком, алкаш дядя Миша Иволгин за бутылку водки всё «привёл» в порядок. В сумерках он выкрасил всю скульптурную группу тёмно-коричневой краской. Изъяны издали вроде и не заметны. Всё. Дань памяти хлебопашцам отдали…
Невольно начинаешь размышлять: почему всегда оказывается виновным тот, кто больше всех работает и кормит других? Чем провинился пахарь? Ведь хлеб не имеет национальности и далёк от политики. Он не встревает в политику, работает на земле, а политика без землепашца не обходится. Возле него крутятся нахлебники от политики и коммерции. Так уж повелось исстари.
Что интересно — при царе-батюшке землю пахали сохой-ковырялкой, и, тем не менее, Россия кормила себя и половину Европы. Нашу пшеничку везли за океан в Аргентину и Канаду.
При Советах у нас было больше всего в мире тракторов и учёных-аграрников, однако хлеб стали закупать за океаном. Почему? Может потому, что истребили миллионы настоящих крестьян и уничтожили цвет русской науки, во главе с Вавиловым?
Потом была война и послевоенная разруха. Чтобы накормить страну хлебом — распахали целину, и она стала как отдушиной. Сколько было шума, сколько было вручено наград, а меньше чем через десять лет хлеба опять стало не хватать. В лихих девяностых, как и в войну, вводятся хлебные талоны (карточки). Дошло до того, что нам стали помогать всяким тряпьём из-за границы. Та же Германия, которую мы победили в войне и помогали ей на первых порах продовольствием, стала присылать нам посылки с поношенной одеждой и разным барахлом…
На первых порах «демократы» дружно проклинали своё сельское хозяйство, окрестив его «чёрной дырой». А когда пришли в себя от эйфории власти, наконец-то дошло: глупо завозить хлеб, если в России самое большое в мире зерновое поле.
Первые фермеры и коллективные хозяйства, на разбитой вдрызг технике, в первый год нового столетия собрали урожай более 80-ти миллиона тонн! Через столько лет унижений и словесной болтовни, Россия накормила себя хлебом. Только тут же пришла другая беда — перекупщики, нефтяники, энергетики и финансовые «благодетели», а проще — экономические убийцы, и взяли землепашца в свои тиски, заставили работать на себя.
***
Возвращаясь к снегирёвским коммунарам, невольно приходишь к крамольной мысли, — ни тех порубали белоказаки!
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
МАРГАРИТА И МАСТЕР
После окончания консерватории направили меня работать в Дворец культуры строящегося городка энергетиков, что в Сибири. При распределении мне торжественно сообщили, что там передний край, строится Бухтарминская ГЭС, и я, как комсомолец, по примеру Павки Корчагина, должен быть в первых рядах. Тогда если партия сказала: «Надо!», комсомол отвечал: «Есть!»
Поехал. Вместо города красивое село, которое пока авансом уже именуют городком. Находится он на берегу водохранилища, которое подпирает огромная бетонная махина гидростанции. Рядом бор. Стройка идёт полным ходом. Думаю, место отличное, тут можно и прижиться, лишь бы работа была интересной.
Первым делом иду в отдел культуры. Там говорят:
— Дело в том, Павел Николаевич, что Дворец культуры ещё не достроен, хотя по плану его должны были ввести в строй. Но вы не волнуйтесь, мы вас зачисляем в штат и зарплата вам уже идёт, только придётся с Дворцом подождать. Мы определяем вас временно работать в школу, а если ещё пожелаете, можете подрабатывать в детском саду, — это как доплата к окладу. Жить будете в малосемейном общежитии. Вот вам ордер, вселяйтесь.
Мне такой «передний край» показался странным. Пошёл посмотреть, что за Дворец культуры, и знать, сколько мне ждать?
Батюшки! Как глянул, а там работы непочатый край. Фойе только начали штукатурить, зал готов наполовину, а к сцене ещё вообще не приступали, не говоря уже о репетиторских и кабинетах. Но главное, — на стройке нет ни одного человека, только летают и воркуют голуби. Представляете? Нашёл прораба, спрашиваю, сколько ждать окончания работ, а он как обухом по голове:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: