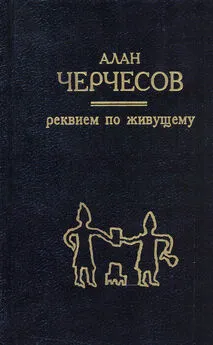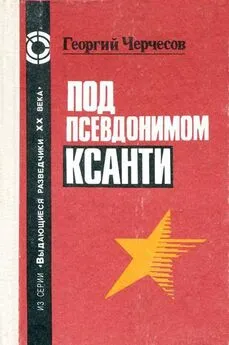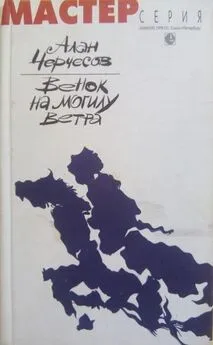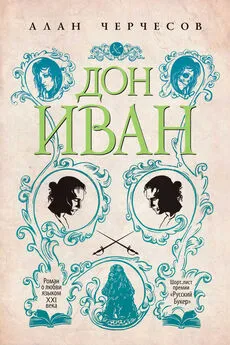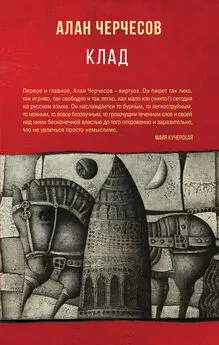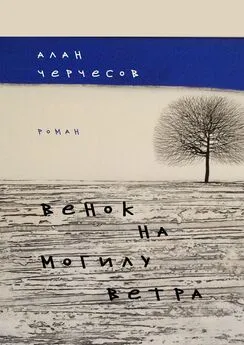Алан Черчесов - Реквием по живущему
- Название:Реквием по живущему
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство имени Сабашниковых
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-8242-0037-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алан Черчесов - Реквием по живущему краткое содержание
Реквием по живущему - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда отец вернулся, уже смеркалось. Он посвистел с улицы, и дядя выскочил к нему, радостно улыбаясь тому, что тот жив. Отец отдал ему ружье и велел немедленно отнести его к Гаппо. Дядя повиновался, а когда снова вошел в дом, увидел, что дед с отцом уже успели повздорить. Старик недовольно бурчал под нос, но по виду его дядя догадался, что он скорее озадачен, чем сердит. «Погляди на него,— обратился дед к младшему сыну.— Сам себе хозяин! Что в голову взбредет, то и ноги несет! Охотник! Не охотник, а — тьфу! С пустыми руками пришел! Может, мне, коли он воротился, уже и помирать пора? Спроси ты у него! Может, он теперь здесь главный? Так пусть не таится. Пусть ко мне подойдет и скажет: отправляйся, старый, на покой. Хочешь — в постель, а хочешь — в могилу! Пусть мне в лицо скажет! Охотник с пустой сумой! Где такое видано в нашем роду! Тьфу!» — ругался дед и брызгал слюной. Дядя бочком выбрался из хадзара и пошел в кунацкую. Отец лежал на циновке, сложив руки под голову, и о чем-то напряженно думал. Дядя затворил дверь, прислонился к ней спиной и сказал: «Теперь всю неделю будет дуться и не разговаривать. Но потом все равно отойдет. Да ты и сам знаешь...— он помолчал. Отец лежал не двигаясь и почти не дыша. Дядя кашлянул, почесал ладонью о дверь и спросил: — Ну, как охота?» Отец отозвался сразу. «Никак,— сказал он.— Дерьмовая была охота. Закончилась раньше, чем началась. Дай мне теперь поспать». Он опустил веки, и дядя оставил его в комнате, тихо удалившись, хоть и знал, что тому сейчас ни по что не заснуть. Вечер был еще в самой силе, когда он снова вошел в хадзар. Старика он уже не застал. Во дворе он наткнулся на бабку, и та сказала ему, что дед отправился на нихас. «Так поздно?» — подивился дядя и распахнул калитку. От нашего забора сквозь сгущавшийся сумрак он не разглядел нихаса, на котором в тот день было необычно многолюдно, зато вдруг остро, нечаянно и безошибочно уловил ноздрями тревогу в чутких бесплотных губах вечернего воздуха. «Я держался за ручку калитки и собирался было войти обратно, чтобы перехватить чего-нибудь до ужина, и тут меня пробило дрожью, словно мою шею кольцом обвила змея,— вспоминал он.— Меня так ударило в дрожь, что даже калитка скрипнула. В дом войти я не успел, ибо тут-то я его и увидел...»В миг, когда мой отец валялся на жесткой циновке, затерянный в своих мыслях, и никак не мог заснуть, а дед мой, пытаясь не выдать волнения, садился на скамью нихаса, когда дядя готовился клянчить у бабки какую-нибудь закуску, а сама бабка споткнулась ни с того ни с сего, подвернув ногу у кладовой, и осела, охнув, на пол, в миг, когда по чьей-то невидимой воле раздвинулись сумерки (потом им будет казаться, что было еще светло. Или почти светло. Что темно сделалось сразу, в считанные секунды, уже после того, как),— Одинокий ступил на нашу улицу и потащил за отвязанный от ружья ремень завернутую в бурку ношу. Он протащил ее от поворота до самого дома Агуза, а старцы наши всё глядели и не двигались с места, и каждый из них вспоминал про то, как много лет назад вот так же на их глазах оборванный мальчишка волок за собой шкуру убитого медведя, уложив в нее свежие окорока и замотав себе лохмотьями срам. Им вспоминалось, как скользили по снегу его худые упрямые ноги и как он ни разу не упал, несмотря на раны, неверность в слабом шаге и неимоверную усталость в бледном и грязном лице. Как дотащил он ее, эту усталость, до своего хадзара, так и не выпустив шкуры из рук, а потом разжег огонь в очаге, и в ровном длинном дыме, поднявшемся над его крышей, им почудился черный палец, зависший над аулом гордой угрозой. Они вспомнили это, потому что теперь все было похоже, но больше — потому, что на сей раз было все хуже, гораздо хуже, они почувствовали это сразу, едва увидели, едва припомнили и едва сравнили. Все было хуже, потому что теперь за справленный из ременной кожи поводок тянул он по улице уже не победу своего одиночества, а роковую неизбежность какой-то беды, приближение которой столько лет до того они слышали сердцем в самом его соседстве, не зная при этом лишь срока, когда он ее принесет. И вот сейчас он — уже мужчина, рослый, крепкий мужчина с распоротой от натуги черкеской посреди широкой спины — нес ее мимо них по заиндевелой дороге сквозь расступившиеся осенние сумерки и спотыкался о собственную усталость, с которой не могла тягаться даже усталость убившего медведя и разделавшего его тушу мальчишки, а они смотрели, как он скверно, неровно идет к их хадзарам и ждет подмоги, и то у одного, то у другого из них перехватывало дух от мысли, что он, наконец, остановится и опустит ношу перед родными кому-то воротами, передав им закутанную в бурку и никем пока не опознанную беду. Под их испуганные взгляды и слоистую от пара из открытых глоток тишину он миновал дом Агуза, потом — дом Батырбека, потом еще шесть домов и добрался до нашего, но дядя, стоявший в калитке, не сделал и шага навстречу к нему — и к беде, которая разом, стоило тому протащить ее мимо нас, сделалась меньше еще на целый дом и ровно на столько же стала ужасней и больше для пяти оставшихся. Когда Одинокий одолел участок длиной в свой забор, а затем миновал еще три дома и подошел к воротам, хозяина которых никто не видел со вчерашнего вечера, тут они поняли, что дальше он не пойдет: дальше был дом Сослана.
Стало быть, Барысби, решили они и заспешили с нихаса вниз. Одинокий остановился, развязал тесемки на бурке, осторожно снял с его головы башлык, прикрывавший лицо, и позвал его сына, выкрикнув в провал ворот его имя. И вот тогда уже стало темно. Когда наши сгрудились в кучу, окружив Одинокого и Барысби, было уже так темно, что сперва они не разобрали, жив тог еще или мертв.
Бурку подхватили и, толкаясь лишними плечами, внесли в дом, где женщины затеяли уже свой громкий плач. Но и сквозь шум, пыхтенье и крики они услыхали его слова: «Он дышит. Ранен в голову и сломана нога...» Но обернуться на голос опоздали: Одинокий упал и прильнул ничком к холодной земле.
Всего этого дядя мой уже не видел, а потому не знал еще, что Барысби жив. В то время как аульчане, нагнувшись над Одиноким и перевернув его на спину, разглядывали его чужое лицо (чужим для них оно было всегда, и вряд ли кто из них сумел бы складно описать его внешность, ведь они редко встречались с ним глаза в глаза, обыкновенно они следили за ним исподлобья. Но сейчас его лицо было чуждо им не только своей чрезмерной близостью и крупностью черт, а еще и своей полной незащищенностью перед их любопытством, открывавшим в нем разом и предельную муку, и беспредельный покой. Такие лица доводилось им встречать доселе разве что у тех, кто умирал от боли или недуга, меняя потный жар своих страданий на ласковую прохладу последнего потусторонья. Был то миг таинственного пограничья между жизнью и небытием, тогда как сейчас перед ними на голой земле белело лицо человека, павшего в бессознании от напряжения и усталости, как падает со вздохом на траву перетрудившаяся лошадь. Они глядели в это лицо и думали про то, что если вдруг оно проснется, отныне и навсегда в нем будет им мерещиться тень прислонившейся к смерти одинокой усталости. Если он оправится, думали они, ему придется носить свою смерть с собой, все равно как кровь свою или желудок. Быть может, он носил ее с собой и прежде, только мы о том не знали, размышляли аульчане, не только мы о том не знали, размышляли аульчане, не решаясь расстегнуть на нем черкеску и послушать сердце, словно простое прикосновение к его плоти было надругательством над его обмороком, мукой и покоем, над их свидетельством его падения и над воцарившимся между ними молчанием. Из дома Барысби раздавались приказы и крики, гремела и билась посуда, плескалась вода, но перед его воротами было тихо, будто несколько вставших в круг человек и поникшее посреди дороги тело образовали маленький островок времени, неподвластный общей суете и выросший из ее беспокойных волн. Через минуту Одинокий разомкнет веки, они помогут ему подняться, и островок рассыпется под их словами, но пока он лежит, все они принадлежат воспрянувшему из потока умному времени, а дядя ничего об этом не знает...), дядя вбегает в наш хадзар, не замечая охающую на полу у кладовой бабку, и спешит к моему отцу. Распахнув дверь кунацкой, он кричит ему в затылок: «Стало быть, вот как ты поохотился! Стало быть, для того и вернулся, чтоб его пристрелить!..» Отец рывком оборачивается, вскакивает с постели и хватает дядю за грудки: «Ты — о Барысби?? Барысби мертв?!» — «Ты убил его»,— говорит дядя и снимает его пальцы со своей груди. Отец делает шаг вперед, со стоном утыкается лбом в стену и принимается качать головой. «Нет,— говорит он.— Не я. Я его так и не дождался».— «Врешь,— говорит дядя, и глаза его мутнеют от слез.— Пристрелил его, а теперь врешь. Только не вздумай врать старику. Или соври так, чтобы он поверил. Но лучше всего — уходи. Беги, пока не пришли за твоей кровью. А еще лучше...» — тут он прыгает сзади отцу на плечи, и они падают на пол, вцепившись друг в друга и перекатываясь по комнате. Отец явно сильнее брата. Он уворачивается от лихорадочных ударов, а потом пару раз точно и стремительно выбрасывает кулак, и дядя разжимает объятия. Рот его разбит, из уголка губ стекает красная струйка, мешаясь у подбородка с соленой влагой слез. Дядя сидит на полу и повторяет: «Я тебя столько ждал! Я тебя ждал, а ты пришел и сразу стал стрелять. Теперь они убьют старика. По твоей милости они убьют нашего старика, чтобы было больнее. Мы тебя ждали!.. Вот ты и пришел. И начал стрелять...» — «Заткнись,— грубо обрывает отец.— Я не убивал. Он гак и не появился. Потом я понял, что сидеть там дальше бессмысленно, и отправился в лес. Его я не убивал. Я бродил по лесу, чтобы не спускаться в аул до вечера. Мне нужно было дотерпеть до вечера. Я не хотел его убивать». Дядя рукавом стирает с губ кровь и говорит: «Когда я возвращал Гаппо ружье, в сумке было восемь патронов. Сегодня утром их была ровно дюжина. Две пули ты выпустил в меня. Где еще два патрона?» — «Не знаю,— отвечает отец.— Должно быть, высыпались, пока бродил».— «Ага,— говорит дядя.— Взяли вдруг и высыпались. Конечно...» — «Пошел-ка ты к дьяволу,— говорит отец. Потом спрашивает: — Кто его нашел?» И еще раньше, чем дядя откликнется, знает уже, каким будет ответ. «Одинокий»,— говорит дядя, а отец уже откидывает дверь и бежит вон из комнаты. Во дворе он перемахивает через забор и впервые за восемь лет входит в дом того, кто спровадил его в тюрьму, чтобы не допустить убийства, отложив его на эти восемь лет и спустя восемь лет совершив его самолично. Так думает мой отец, когда идет к хадзару Одинокого и без стука появляется на его пороге. Одинокий стоит к нему боком, припав к чаше с водой. Здесь почти темно и много теней. Они скользят по помещению по прихоти мерцающих в очаге углей. Отставив чашу и повесив ее на деревянный штырь над потным жбаном, Одинокий говорит: «Я искал тебя весь день. Боялся не успеть». Он предлагает отцу скамейку и вслед за ним усаживается сам. «Я думал, ты придешь еще прошлой ночью. Но вместо ночного гостя получил лишь пулю в дверь. Ну а ты решил сперва поохотиться...» Он начинает рассказывать, и отец слушает про то, как утром тот заглядывал к Барысби, да только его уже не застал, а домашние его знали слишком мало, они знали только, что хозяин отправился на охоту; о напарнике речи не было, наверно, они посчитали, что Барысби пошел в лес без напарника, коли ни слова не было сказано о моем отце, и тогда Одинокий, прихватив с собой ружье — обмененное им век назад у моего деда на семь восьмых с обмолота и вот уже целый век всякий год меняемое еще и на наше батрачество да доверху набитые мешки,— двинулся по их следу, еще надеясь, что успеет, что отыщет отца и сумеет уговорить, но надежда с каждым часом угасала, как угасал питавший ее дневной свет, а потом, покружив по лесу, он вышел к Турьей тропе и тут остановился, колеблясь, возвращаться ему или нет, однако все же почему-то послушался дувшего в спину голодного ветра и направился дальше, к вершине, куда не взбирался так давно, что теперь, при виде зияющей под ногами глубокой пропасти, у него сводило челюсти и трепетали коленки, но пропасть он одолел, он одолел пропасть и перевел дух, а потом пошел еще дальше (но по сути — так ближе: обогнув по широкой дуге гору, он уже не уходил от аула, а двигался ему навстречу), и когда лес поредел, он этого почти не заметил, потому что свет поблек и сделался каким-то узким и сухим, словно потерял свою силу, пока пробирался сквозь густые деревья вместе с Одиноким к оврагу, а когда они достигли его, свет разом отсырел, и Одинокий ему позавидовал, потому что сам ужасно, до шороха в зобу, мучался жаждой, и тогда, чтобы ее утолить, он спустился в овраг и принялся ворошить гнилые листья, пытаясь отыскать ручей, только вместо ручья отыскал Барысби, тот валялся в овраге среди гнилых листьев и даже уже не стонал, вещи его тоже успели пропахнуть гнилью, а из-под плеча сочилась лужица с талой водой, и Одинокий понял, что тот лежит там уже давно, наверно, с самого полудня, с тех пор, как прозвучал выстрел; лицо Барысби было измазано кровью, и Одинокий умыл его, черпая воду прямо из лужи; потом он завернул его в бурку и потащил в аул по пологому спуску с западной стороны горы; до места, где склон, заканчиваясь, переходил в ровный, как лед, пятачок набережного яруса, он шел около часа (в любой другой день ему бы понадобилось на это столько времени, сколько требуется на то, чтобы сбежать по пригорку вниз, облюбовать толстое дерево, справить за ним малую нужду, а потом налегке спрыгнуть с края склона на выпирающий из его отсеченного молнией бока каменный пласт яруса), а когда лес остался позади, оглянувшись, он увидел в десятке шагов от себя слюнявую морду шакала и запустил в нее камнем, но через минуту шакал появился опять, и тогда Одинокий сбросил с плеча ружье, тщательно прицелился и мягко нажал на курок, а после того, как дым рассеялся, понял, что промахнулся: слишком устал, руки устали и тряслись; через сотню метров он остановился, дал им роздых и попробовал опять, но и тут его постигла неудача: как и в первый раз, пуля вонзилась в камень в нескольких шагах от цели, взбив фонтанчик пыли и вынудив шакала разве что вздрогнуть да вяло кинуться в сторону; потом он снова шел за ними по пятам, и даже когда Одинокий миновал прибрежную гальку и ступил на дощатый мост, животное упрямо последовало за ним, и Одинокому почудилось, что шакал тоже намеревается перейти бурный поток по деревянному настилу, и только услыхав оскорбленный лай, он с облегчением подумал: вот и ладно, а потом обернулся и сказал вслух: «Поищи себе где-нибудь падаль, паршивый ты пес, не то кишки сведет с голодухи», сказал и рассмеялся, от смеха стало и впрямь веселей, и он снова взялся за ношу, чувствуя, как мгновенно вздулись вены в предплечьях и глухо заныли, приготовившись к новой боли; он двигался по самому берегу, река кидала брызги, и Одинокий замотал Барысби лицо башлыком; по мокрой гальке тянуть было проще, но несколько раз он оскальзывался и разбивал колени, потом, передохнув с минуту, медленно вставал в рост и принимался шагать дальше; еще через полчаса он вошел в аул, и теперь ему оставалось лишь одолеть притихшую улицу, и это вот было труднее всего, потому что они, говорит Одинокий, струсили, сидели и молчали, и никто из них не поспешил мне на помощь, они только глядели, и от волнения у них дрожали кадыки, и каждый из них молил небо о том, чтобы я не дошел до его ворот, а потом — чтобы я прошел мимо, а когда я добрался до ваших, брат твой тоже молчал и стерег калитку руками, а тебя опять нигде не было, словно те восемь лет еще продолжались, а я шагал и думал о том, почему это всегда все так плохо заканчивается, даже если конец переносится судьбою на восемь лет вперед, я думал о том, говорит Одинокий, почему тебя нигде нет, ведь ты должен был наблюдать за нами хотя бы украдкой, как наблюдает кузнец за подкованным им конем или как угостивший следит за теми, кто угощается, но тебя нигде не было, и тогда я подумал: а может, то был не ты? а после подумал: но больше-то некому, а потом, говорит Одинокий, я дошел и позвал его сына, и тут мне сделалось в самом себе как-то гулко и тесно, а потом сразу — темно, очень темно и тепло, и даже думать теперь было не нужно, а когда я снова открыл глаза, они стояли надо мной и, похоже, по-прежнему не собирались ничего говорить, зато помогли мне подняться и отправили с миром домой, и я вошел к себе и стал пить воду, я пил и пил, чтобы затопить сухость внутри, а потом пил, смакуя каждую каплю, и уже почти напился, когда услышал шаги и понял, что это ты; ты пришел, чтобы закончить те восемь лет; ты пришел, говорит Одинокий, чтобы разобраться, как тебе поступать дальше и что тебе делать со мной, потому как от мести ты устал, ты жил ее эхом целых восемь лет, а потом еще целый день, не считая полуденного мгновенья, когда эхо воплотилось в выстрел, но тут же снова вернулось, став само собой, только теперь до самого вечера звучало оно громче и назойливей, так что тебе опостылело слушать его противный повторяющийся щелчок, и тогда ты, говорит Одинокий, пришел сюда, чтобы сделать выбор, и я не буду тебе мешать...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: