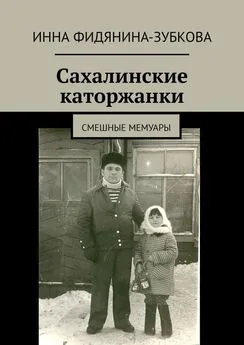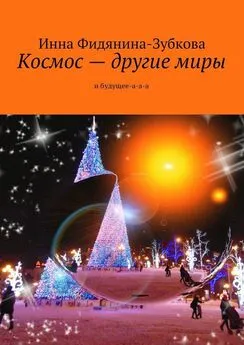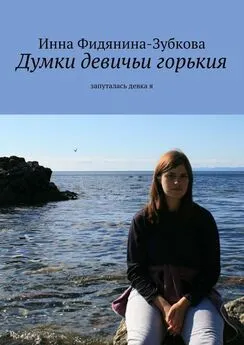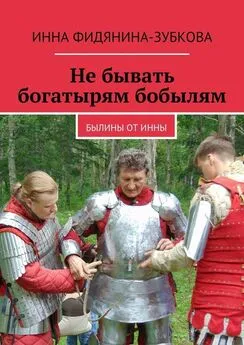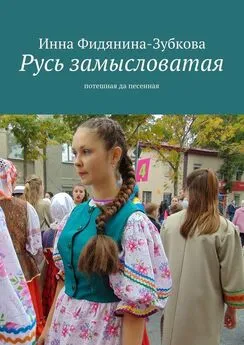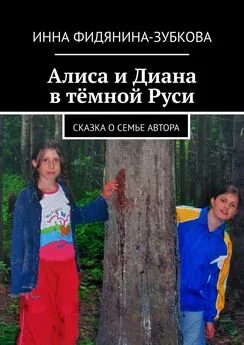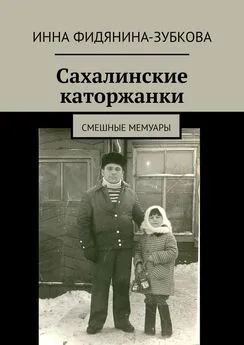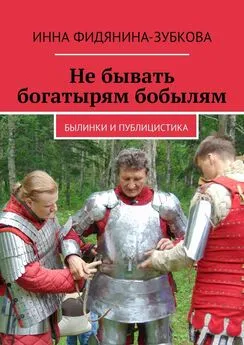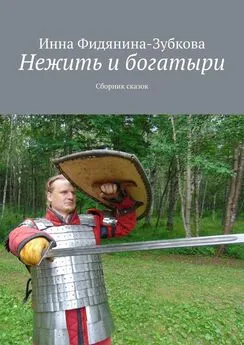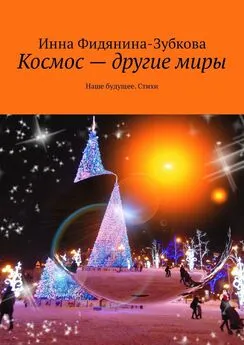Инна Фидянина-Зубкова - Сахалинские каторжанки
- Название:Сахалинские каторжанки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Фидянина-Зубкова - Сахалинские каторжанки краткое содержание
Сахалинские каторжанки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассказывает И Чун Хен, бывший президент областной ассоциации сахалинских корейцев:
«Поддавшись уговорам одного японца, мой отец в возрасте 18 лет приехал на Сахалин на заработки. В то время корейцы в основном работали на лесозаготовках, строительстве железной дороги, на шахтах и строительстве военных баз».
«В 1938 году мой отец по принудительной мобилизации, оставив семью в Корее, приехал на шахту „Тоёхата“ Китанаёси (ныне Лесогорск) Карафуто. Его заставили заниматься тяжелым шахтерским трудом. Оставшись одна с 5-ю малолетками, моя мама не смогла прокормить семью. Голодные и раздетые, мы росли безотцовщиной. Не выдержав таких страданий, в июне 1939 года моя семья приехала на Карафуто на шахту „Тоёхата“, где находился отец». Свидетельствует житель г. Южно-Сахалинска Де Ден Гу, 1927 г. рождения, почетный член Совета Старейшин областной организации сахалинских корейцев:
«В феврале 1945 года 18-ним парнем я был принудительно привезен на Карафуто. Из родной деревни Мунхён, через Тэгу и Пусан вывезен в Японию на Симоносеки и Отару и перевезен на Карафуто на шахту Найхоро (ныне Горнозаводск)». На встрече с представителями молодого поколения сахалинских корейцев в редакции газеты «Сэ коре синмун», председатель Совета Старейшин местной организации корейцев г. Южно- Сахаплинска У Ден Гу, 1934 г. рождения, говорил:
«Узнав, что набирают рабочих на Сахалин, в 1942 году мой отец сам записался и уехал один. В 30-е годы мои родители жили в маленькой деревушке на юге Кореи и так же как и все жители вели нищенскую жизнь малоимущих крестьян. Мой отец думал, что на Сахалине можно заработать деньги и я, единственный сын в семье, смогу ходить в школу. Через год, девяти лет, я с мамой приехал на Сахалин в поисках отца. Приехав на шахту Мицуи (ныне „Синегорская“) где работал шахтером отец, мы стали жить в бараке».
ГЛАВА 3. В положении рабов
Село Нитой расположено в устье реки Нитой. Жители села занимались рыболовством, выращивали картофель, овощи, сажали бобы, овес и рожь. Через село пролегала железная дорога, соединяющая город Тоёхара и Сисука. В Сиритори (Макаров) и Сисука (Поронайск) находились целлюлезно-бумажные комбинаты и для обеспечения их сырьем в селе Нитой заготавливали древесину. В 1941 году моя семья переехала жить в это село. Мой отец работал на заготовке леса. В глухом лесу построили барак, где жили 30—40 одиноких корейцев — лесозаготовителей, пилили деревья вручную, конной тягой свозили заготовленный лес к реке и сплавляли к устью. С течением времени стали приезжать семьи и родственники. Постепенно на улицах села зазвучали звонкие детские голоса. В этой деревне родился и провел свои детские годы и я. К тому времени здесь жили семьи моих тети и дяди, земляки родителей. Конечно, для детей важно, чтобы были рядом родители, в доме всегда была еда. Для них неважно, кто правит страной, кто ты по национальности. И мы наслаждались своей беззаботностью. Мы игрались во дворе японской школы, говорили по-японски, пели японские песни. И не понимали почему дома мы говорим по-корейски, а на улице нужно употреблять только японский язык.
Во времена японского правления на Карафуто не было корейских школ. «Политика геноцида японского колониального режима по отношению к корейскому народу проявилось и в области образования. Искажая нашу историю, разрушая нашу национальную культуру, он усиленно внедрял в Корее японский дух и японскую культуру, налагал запрет на использование корейского языка и письменности. На первых порах для умиротворения населения колонизаторы распространяли теорию об этническом единстве корейцев и японцев. Затем они заставляли корейцев изучать японскую историю, говорить на японском языке, давать присягу на верность японскому императору. В процессе японизации они даже заставляли менять фамилию и имена на японские. Эта политика была направлена на то, чтобы стереть корейский народ с лица земли, превратить его в покорную колониальную нацию». Поэтому корейские дети должны были ходить в японскую школу.
«В августе 1906 года в помещении бывшей русской церковной школы во Владимировке японцы открыли свою первую начальную школу. В ней обучалось 20 японских детей. В том же году были открыты начальные школы в Отомари и Маока. В 1908 году вышел специальный указ императора о развитии образования на Сахалине. К 1935 году на Карафуто насчитывалось 210 начальных школ с 985 классами, 1046 учителями, и с числом учащихся, достигших цифру в 43 495, организовывались начальные туземные школы, где обучались айны, ороки и дети других 23 народов».
«В то время я учился в японской школе и имя тоже было японское „Ясуда“, обучали все на японском языке. Поэтому было очень трудно. К тому же мы учились вместе с японскими детьми и от них всегда нам „доставалось“ унижения и нас они обзывали „Чёсен наппа“ (корейский салат из свежих овощей)».
Дискриминация корейцев заключалась не только в образовании. Большинство из них вынуждены работать там, где было наиболее опасно: на строительстве военных аэродромов, железной дороги, на шахтах, лесозаготовках. Прекрасной иллюстрацией сказанному может служить рассказ Пак Хе Дона, покойного председателя Совета Старейшин областной организации сахалинских корейцев: «В январе 1943 года меня забрали из деревни и доставили в г. Пусан. В полицейском участке нас переодели в тюремную робу. В течении недели нас держали в товарняке. В Вакканае нас погрузили в судно. 42 корейца сидели как тюки на железном полу самого нижнего трюма. Темной ночью достигли порта Корсаков (бывший Отомари). Затем нас доставили на шахту Найбути (Быков) и сразу же погнали на работу. Мы были механизмами для добычи угля. Работали по 12 часов в сутки, питались стоя, за смену каждый шахтер должен добывать 2 тонны. Так как не было никаких средств безопасности, то очень часто шахтеры попадали под обвал. Кроме этого, корейцы работали на строительстве железной дороги, военных аэродромов, заготовке леса.
Положение завербованных на Карафуто корейцев было ужасающим. Условия жизни и работы на строительстве железной дороги и военных аэродромов, на лесозаготовках и на шахтах, были таковы, что голодные и изнуренные непосильным трудом и издевательствами надсмотрщиков-японцев и их приспещников-корейцев, доведенные до отчаяния они бросались в бега. Их ловили и бросали в «такобея». Бок Зи Коу приводит слова из японского энциклопедического словаря: «Такобея — это общежитие, в котором жили люди, работающие как заключенные на шахтах Хоккайдо и Сахалина. Этих заключенных называли «тако». «Тако — это заключенные лагерей «такобея» для принудительного труда. Если в начальном этапе возникновения в 1886 г. на Хоккайдо, «тако» были действительно преступниками, то в 1938-1940-вые годы ими стали насильственно завезенные корейцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: