Васил Попов - Корни [Хроника одного села]
- Название:Корни [Хроника одного села]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Васил Попов - Корни [Хроника одного села] краткое содержание
Корни [Хроника одного села] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Да как же не печься? — возразил Гунчев. — Мне его жалко, Лесовик.
— Гунчев, когда мы голосовали за повестку дня, я вас спрашивал, есть у вас какие-нибудь поправки и предложения или нет? Почему ты не предложил обсудить положение маленького Димитра?
— Да оставь ты эту повестку дня — дело не в повестке дня.
— А в чем же? В чем? Говори яснее: «то-то и то-то», чтоб мы поняли, в чем оно, — ведь люди бегут! Предложи какое-нибудь мероприятие…
— Ничего я не могу предложить. — Гунчев весь сжался, его кроткие, женские глаза погасли, остались лишь лежащие на красной скатерти большие, как лопаты, ладони с растопыренными пальцами. — Я сам что-то запутался, Лесовик. Мне кажется, будто я нахожусь в нижнем конце села и иду в верхний. Вроде бы я сижу здесь, на собрании, а перед глазами — дом Илии Авджиева. Вот и козы!..
— Какие еще козы? — опешил Генерал.
— Гунчев! — Лесовик стукнул кулаком по столу.
— Верно, я уже свихнулся, — кротко проговорил Гунчев. — Иначе откуда взялись эти козы?
— Слушай, Гунчев, — Лесовик еще больше нахмурился, — ты член партии и не имеешь права свихиваться, на нас лежит ответственность, мы всегда должны быть в первых рядах.
— Лесовик, — вмешался Генерал, — оставь человека в покое, верно, он немного не того, запутался, ты что, разве никогда не запутывался?
Лесовик тяжко вздохнул. Разве он мог признаться, что запутался, да к тому же больше всех, что он уже не может разобраться, где ночь, где день. А ведь он меньше всех имел право запутываться. Он бросил взгляд на портрет Маркса и тихо спросил: «Ты никогда не запутывался?» И Маркс ему тоже что-то тихо шепнул, что именно, Лесовик не смог хорошо расслышать, а может, хорошо понять, но зато вспомнил, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо, что же касается прошлого, то Маркс говорил: мы должны, смеясь, расставаться со своим прошлым. И тут Лесовик возроптал — ему было совсем не до смеха, и он отнюдь не хотел расставаться с прошлым… А Генерал ждал, чтобы он ответил на заданный вопрос и можно было бы это записать в протокол.
— Никогда, — ответил Лесовик.
Он понимал, что ему не поверили, ведь они с детства знали друг друга. Да и говорить обо всем этом и писать протоколы не было нужды, они могли просто сесть во дворе, под шелковицей и помолчать, сказав этим молчанием друг другу гораздо больше. Вот уже годы они думали об одних и тех же вещах и каждый день о них говорили. Сегодняшняя повестка дня была повесткой прошлых и будущих собраний и касалась одного-единственного вопроса, самого важного в жизни их партийной ячейки, состоявшей всего лишь из трех человек. Но трое таких — это сила.
— Лесовик, — сказал Генерал, — все мы хорошо знаем сложившееся положение. Обсуждай его, не обсуждай — оно останется тяжелым. Настал момент, когда каждый из нас должен решить вопрос для самого себя. Ты сказал, что остаешься. Я тоже остаюсь.
Он замолчал, чтобы занести свое высказывание в протокол.
— Генерал, — начал Лесовик, но Генерал сделал знак, чтобы он повременил, и добавил:
— Подожди минутку, я сначала запишу свое высказывание, а то после забуду… Так вот, — он оторвал от бумаги одновременно и глаза и карандаш, — в этом-то все и дело!
— В чем? — спросил Гунчев.
— В том, чтобы каждый остался здесь, — твердо сказал Лесовик. — В этом все дело. Ты, Гунчев, готов остаться, что бы ни случилось?
Гунчев не ответил. Он увидел смеющиеся глаза Йордана Брадобрея, услыхал его голос. Они много разговаривали и вчера и сегодня, и всё об одном и том же — о Рисене. «Хорошо, — подумал он, — я в женщинах не нуждаюсь, но Йордан как на углях — спит и видит, как бы поскорее уехать. Там, говорит, жизнь, там бабы, там работа. Если он уедет, а я останусь, что я буду делать один-одинешенек? Придется и мне замолчать, как Босьо, и ждать, когда прилетит какая-нибудь птичка и споет мне какое-нибудь слово. Но я в словах не нуждаюсь! Я нуждаюсь совсем в другом: в людях, в работе — сам не знаю, в чем больше. А здесь, как говорит Дышло, вроде бы я живу и вроде бы меня нет… Если Йордан уедет, я тоже поеду за ним, и все это прекрасно знают. Ну как же я могу людей обманывать, кривить душой, обещать: я остаюсь!»
— А что может статься, Лесовик?
— Все.
Гунчев не понимал, что значит «все». Он считал, что «все» заключалось в том, что люди разбегаются и в конце концов разбегутся. Один только Спас останется, чтобы содержать в порядке свои дома, да Лесовик с Генералом. И тут вдруг его проняла дрожь. Ему впервые пришла в голову мысль, что Лесовик, в сущности, ненормальный. Он поднял голову и вгляделся в его лихорадочно горящие глаза. «Ненормальный, — повторил он про себя, — но только не из тех, что разговаривают сами с собой и воображают себя невесть кем или впадают в детство, а из числа одержимых, которые все хотят перевернуть вверх ногами, хотят перевернуть мир». Вспомнил Гунчев, как его принимали в партию, как Лесовик говорил о Карле Марксе и о капитале, о равенстве и будущем, а он, Гунчев, думал в это время о земле. Когда его в конце спросили, что представляет собой коммунизм, он, не колеблясь, ответил:
— Как что — работа и еще раз работа.
— Эй, Гунчев, — снова сказал Генерал. — Ты остаешься или как? Я должен это записать.
Гунчев вгляделся в него, в его глубокие голубые глаза, которые все могли вместить и подвергнуть отстою, в руку, которая ждала, занеся остро отточенный карандаш, как ятаган над склоненной шеей, и снова почувствовал дрожь. И Генерал был ненормальным, и Спас, и Босьо, и бабка Воскреся — все они были ненормальными в этом селе и могли оставаться, а Йордан уедет, и Дышло и Зорька с Недьо и маленьким Димитром — они должны уйти к людям, к своим, в Рисен, найти другую землю, другую работу… Он закрыл глаза, поняв, что в эту минуту он прощается с прошлой жизнью, с родным селом и домом, с Кудрявым холмом и Васьовым, с Овечьим родником и Большим лугом, со всеми камнями и мешками, которые он здесь таскал-перетаскал, со всеми снопами, крестцами и копнами, с мотыгой и лопатой, с теткой Анной и всем миром. Гунчеву показалось, что он уже умер и лежит под землей, усыпанной цветами, а Лесовик и Генерал склонились над его могилой и все спрашивают и спрашивают, а он не может ответить.
— Не могу, — произнес он, и слезы закапали из его живых глаз.
ВЕСНА

Бабка Воскреся прислушалась. Отсюда, с галереи, ей все было слышно. Скоро закашляет Лесовик, а сейчас за забором промяукала кошка Дачо, оставшаяся без хозяина. В доме Сеиза день и ночь трудятся жуки-древоточцы. В тихие ночи бабка Воскреся и их слышит. А котелок?.. Во дворе у Дышла ветер раскачивает забытый на гвозде маленький луженый котелок. И телефонные провода, натянутые, как струны, под самыми окнами бабки Воскреси, наигрывают что-то тоненько и нежно, и висячий мост-качели над оврагом поскрипывает, хотя никто по нему давно не ходит. Мост этот смастерил Дачо, хорошо смастерил, и много народу по нему прошло. Куда ушел весь этот народ? Почему не вернулся?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Васил Попов - Корни [Хроника одного села]](/books/1078374/vasil-popov-korni-hronika-odnogo-sela.webp)


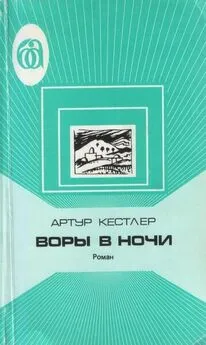
![Леонид Почивалов - Двое в океане [Хроника одного рейса]](/books/1076644/leonid-pochivalov-dvoe-v-okeane-hronika-odnogo-rej.webp)




