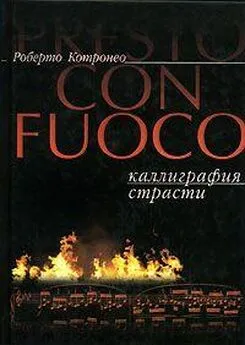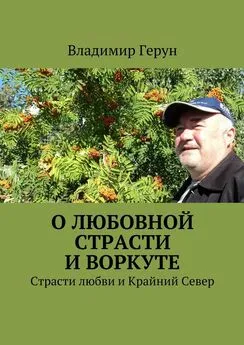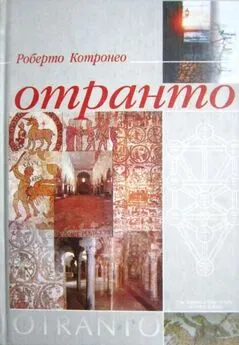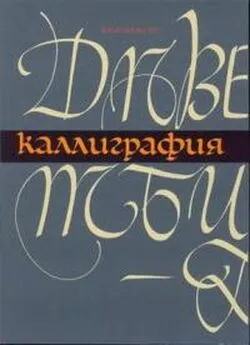Роберто Котронео - Каллиграфия страсти
- Название:Каллиграфия страсти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2002
- Город:СПб
- ISBN:5-89329-489-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберто Котронео - Каллиграфия страсти краткое содержание
Каллиграфия страсти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот уж поистине этот миг моей жизни я прожил в фа-миноре. Впервые за вечер, начавшийся с чудесного появления Соланж, осознал я, что все имеет объяснение, ничто не происходит по воле случая. И это умение совместить далекие события — привилегия людей, много знающих и умеющих прочесть мир согласно законам, известным только им. Они изобретают язык и письменность там, где их, казалось бы, не может быть, да и нет на самом деле. И хоть это и было естественно, я удивился, снова вернувшись мыслями к Аннетте и ее почти болезненной чувственности, когда ощутил, что тело Соланж снова потянулось к моему.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Может, это и случайные совпадения, но совпадения вполне в романтическом духе. Русский пианист Андрей Харитонович был арестован в ночь с 16 на 17 февраля 1949 года. Ровно через 100 лет с того дня, когда Шопен завершил финал Баллады: на листках, лежащих передо мной, стоит дата 17 февраля 1849 года. Если Харитонович знал эту дату, то представляю, какой презрительной улыбкой встретил он тех, что пришли за ним. Им-то было невдомек, что не законам режима подчиняются они, а законам драмы, понять которую им не дано. Некоторые биографы утверждают, что точная дата рождения Шопена — 17 февраля.
В этом переплетении дат можно запутаться и свихнуться. Склонен думать, что тут дело не в случае, а в том, что, не знаю, как, но Харитоновичу удалось оттянуть арест до этой многозначительной даты и наполнить смыслом акт слепой репрессии.
Поразительно, как различны были наши миры и как, в конечном итоге, они зависели от случая. В моем мире, а ведь прожил я практически весь двадцатый век, случай был прекрасным строительным материалом. На нем строились сюжеты, возводились здания, он придавал смысл ничего не значащим вещам. Куда же в этой системе поместить мою Соланж? Отнесу ли я ее к случаю или к тому сюжету, который до сих пор стараюсь выстроить? Не знаю. Даже сейчас, через много лет, не берусь этого сказать. В ту ночь я сыграл ей Четвертую Балладу и последнюю Мазурку. Она не была удивлена или восхищена, скорее — возбуждена тем, что она называла «легкой силой моих рук». Впервые мною не восхищались, я просто нравился. Как Аннетте, которая не ведала ничего о моем пианистическом мастерстве, зато знала мое тело и домогалась его.
Всю жизнь я завоевывал женщин своей славой, обаянием знаменитого артиста. Деньгами, наконец. А тут я оказался перед женщиной, даже не просившей меня сыграть, просто предоставлявшей мне делать все, что я хочу. И слегка дувшейся, потому что в моем доме не было ни одного зеркала. Все это смущало меня. Я еще раз сыграл Балладу, и мне почудилось, что ноты перепутались. Как знать, может быть, первая моя версия была ближе всех к истине: Шопена ослепила страсть, а капризница Соланж заставила его переписывать партитуру, вовсе в том не нуждавшуюся. А про последнюю шутку Бога, смутную вину перед Которым всегда чувствовал, я сам все напридумывал.
Завтра снова явятся гамбуржцы из студии грамзаписи, доберутся ко мне в долину Роны. Но время еще есть: аэропорт расположен далеко. Они явно поведут речь о полном собрании записей Шопена. Некоторые произведения я вовсе не записывал: Экспромты, Скерцо, нет полных записей Ноктюрнов. Это была бы отличная работа, но я терпеть не могу укладываться в сроки. Они же любят точность: им кажется, что трех лет вполне хватит. Иногда я их просто не слушаю, и они понимают, что я могу настоять на своем даже против десяти человек. Считается, что мне все позволено, и я этим пользуюсь. Нет больше ни Аррау, ни Магалова, ни Гульда. Остались только Рихтер да я. Они любуются тем, что называют «капризами гения». Мне же больше по сердцу называть это «пробелами в выносливости», которых я стыдился всю жизнь. Я получил строгое воспитание, а воспитанный человек не может позволить себе капризничать, он должен уметь подстраиваться к любым условиям. Так, по крайней мере, учил меня отец, всегда скрывавший свои слабости.
Когда от разрыва сердца умерла моя мать (думаю, что из-за смерти дяди Артура), отец на пролил не слезинки, хотя очень любил ее и мучился своей любовью. Источником страданий была и привязанность к брату, обладавшему необыкновенным талантом, какого у отца никогда не было. Сразу потеряв их обоих, он ничем не выказывал своего горя, оставаясь абсолютно закрытым для посторонних глаз, словно запер себя на тяжелые засовы. Я провел дома еще два года. Не было уже ни Аннетты, ни учителя музыки, который на прощанье лишь посоветовал готовиться к международному конкурсу, чтобы добиться признания. Все годы, что я готовил свою первую программу, я виделся с отцом только по утрам и коротко по вечерам. Он на глазах старел. Белели и редели его волосы, и все более невыносимым становилось его тяжелое молчание. Один единственный раз я заметил, что он слушает мою игру, тихо прислонившись к косяку гостиничной двери. Я как раз играл Мазурку фа-минор, которую ему, наверное, в бессознательной жестокости своей, часто играла мать. От неожиданности я приостановился, увидев его, потом взял себя в руки и продолжал. Но этого было достаточно:
когда я кончил, то уже не увидел возле двери его высокую, худую, сгорбленную фигуру.
Месяца через два после этого случая я получил первую премию на конкурсе Шопена в Варшаве. А еще спустя некоторое время отец мой, однажды выйдя из дома, больше не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно. Скрылся ли он куда-нибудь или окончил свои дни в одном из озер с камнем на шее? Несколько раз мне сообщали, что видели похожего на него человека. Потом все кончилось. О нем напоминало только надгробие в фамильном склепе. А мне до сих пор хочется думать, что он был жив в тот день, когда я давал свой первый концерт после конкурса Шопена, и стоял за дверью зрительного зала, готовый в любую минуту исчезнуть, едва будучи замечен. По странному стечению обстоятельств я играл тогда Четвертую Балладу и Мазурку фа-минор, ор. 68.
Я совершенно не помню, в какой день он исчез, хотя Обычно такие даты врезаются в память. Помню только вечернюю тревогу и беспокойство, помню фонарь, который вдруг загорелся ярче обычного, и чем яснее он высвечивал угол сада, тем отчетливее я понимал, что происходит что-то нехорошее. Небо из ярко-синего вдруг сделалось черным, луны не было, поднялся ветер, звуки голосов звучали глухо. Работники возвращались в дом с факелами, и на их лицах я читал выражение сочувствия; они словно тоже ждали беды, но не осмеливались мне сказать. В этом не было нужды: я и так понимал, что что-то случилось. За несколько дней до этого я нашел письма матери к отцу, написанные в 1919 году, то есть за год до моего рождения. В них было все: драма матери, смирение отца, тщетный компромисс, позволявший дяде обитать рядом с ними во флигеле, компромисс, не оставлявший выхода ни для кого. Двадцать лет такого сосуществования были мучением для всех троих, в том числе и для дяди Артура, который в жизни никогда не проявлял свою гомосексуальность, наоборот, старался ее всячески скрывать от всех и от себя в том числе. В тот день я словно нашел пленку, где были отсняты мое детство и юность, и сумел, наконец, найти нужную скорость воспроизведения, при которой фигуры актеров задвигались правильно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: