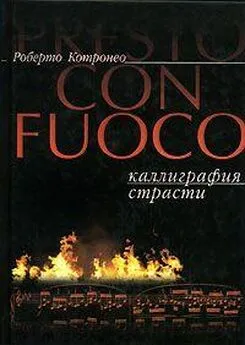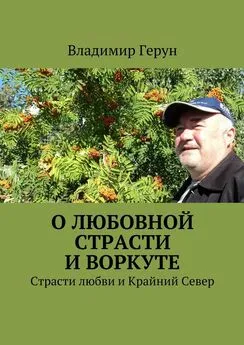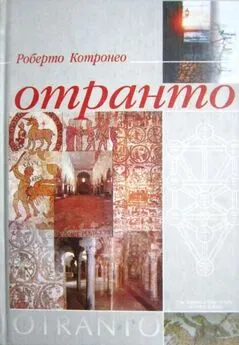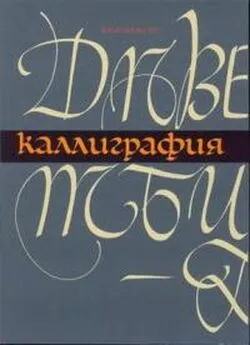Роберто Котронео - Каллиграфия страсти
- Название:Каллиграфия страсти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2002
- Город:СПб
- ISBN:5-89329-489-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберто Котронео - Каллиграфия страсти краткое содержание
Каллиграфия страсти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Понимала ли все это моя Соланж? Сознавала ли, что ее легкие волосы, взлетавшие на ветру, были частичкой той мозаики чувства, рисунок которой я знал наизусть? И ко мне снова возвращались ощущения того далекого дня в горах: озноб от предутреннего холода, внезапная тишина за спиной, когда и Маурицио, и Джонни, и Альберто — ребята, называвшие себя этими именами, — поняли, что совместный путь на этом кончился, и наши судьбы повернулись в разные стороны. Они смотрели на меня с уважением и робостью, хвалили неуклюже, боясь сказать невпопад. Один лишь Джонни спросил, что это была за музыка, а я почему-то не решился назвать имя композитора. А потом все снова хохотали и пили красное вино, и одна из девушек, разгоряченная, подошла ко мне и, словно желая стряхнуть с себя неловкость, хлопнула меня по колену и сказала: «Молодец!»
Соланж в ту ночь к фортепиано не подошла. Она держалась в стороне, а я наблюдал за ней краем глаза. Она стояла легко и свободно, прислонясь спиной к стене, и в ее глазах, не отрывавшихся от моих рук, я не заметил восхищения. А ведь мои пальцы буквально летали над клавиатурой, и каждое их движение было отточено до совершенства. Когда я кончил играть, она не подошла, осталась у стены в позе почтительного ожидания. И я уловил в этой настороженной почтительности знакомое ощущение отчуждения, то самое, что было у растрепанной подвыпившей девчонки, сказавшей мне: «Молодец!» Мне стало не по себе: значит, как только обрывается звучание фортепиано, обрывается нить, связующая меня с внешним миром? А может быть, фортепиано и есть та самая нить? Но тогда я получаюсь жертвой своего инструмента, и именно на этом много раз срывался, когда все хотелось послать к чертям. Однажды, после концерта в Стокгольме, я сказал журналисту, просидевшему у меня допоздна: «Обычно думают, что фортепиано — это посредник между исполнителем и публикой. Но у меня много раз случалось, что запредельная техника исполнения превращала инструмент в некое самостоятельное существо, которое я уже не контролировал: оно жило само по себе и становилось главным действующим лицом. А я сам исчезал, придавленный его механической и звуковой мощью».
Мне показалось, что мы с Соланж почувствовали одно и тоже: будто ветер холодный прошел. Конечно, отчасти в том была вина Шопена, написавшего последние страницы Presto con fuoco. Ведь мог же он написать для Соланж такой же сокрушительно прекрасный финал, как в последней Мазурке. Но он призвал силу, страсть, ярость, почти колдовство. Призвал, зная, что никогда не сможет сыграть эти страницы, и для Соланж они останутся навсегда лишь начертанными — немые, без звука, без музыки. О гримаса соразмерностей! Ведь я же сыграл эти труднейшие страницы, но не смог в своей душе переплавить их порыв, их страсть в такое же чувство к моей Соланж, которую судьба помогла мне найти в парижском кафе. Я оказался в своем пианизме, как в тюрьме, я сотворил кумир из своего таланта, втиснул его под крышку рояля, и он сидит там, как демоны Шопена, что напугали его в Англии.
Вчера я долго гулял по лесу, сбегающему от дома в долину. Хочется движения, я начинаю уже тяготиться затворничеством, хотя оно в какой-то мере и помогло мне бежать от себя. В последние годы я ос :тановился на Дебюсси, потому что он не задевает меня за живое, я его люблю спокойно и отстранение. Мне нравятся прихотливые созвучия, которые он смешивает в воздухе, как алхимик или как художник, пробующий краски. Никто не сможет понять, почему в тех редких интервью, что я позволяю себе нынче, я говорю о Дебюсси, Моцарте, Скарлатти, Клементи, иногда о Бетховене, но никогда — о Шопене. Потому что Шопен ждет меня, я должен, наконец, вернуться к нему, и он потребует всю мою способность изумлять мир. Теперь я еще не готов к этой встрече, не способен войти в приснившийся храм (хотя кто-то внутри твердит мне, что он существует). Я вижу его высокие готические своды, гранитные колонны, деревянный потолок с голубыми с золотом кассеттонами [38] Кассеттоны — квадратные или многоугольные ячеи, расположенные на потолках (Прим. перев.).
, освещенный огромными окнами. Голоса хора и органа взмывают навстречу друг другу, и пламя свечей словно колеблемо таинственным дуновением то ли от оконных проемов, то ли с потолка. Я тону в этом море музыки и не могу никак разглядеть весь пол в церкви, мне видна лишь часть мозаики с рисунком старинным и загадочным, как в Отранто.
Так грезил я, а белки тем временем сновали вокруг и прыгали с одной макушки дерева на другую. И вдруг меня испугала тишина. Такое случалось со мной только раз, когда я стоял на гребне Гондо, на обрывистой пятисотметровой стене, а внизу, невидимый в тени, несся поток. Никому еще не удавалось сюда забраться по стене; можно было пройти только в обход по опасной тропке и высунуть нос в пропасть, на дне которой всегда было черно. От одних названий этих тропок пробирала дрожь: чего стоила, например, «Тропа окровавленных ласточек»! Я представлял себе альпинистов, преодолевавших эти технически почти невозможные скальные маршруты, и думал, что мы с ними в чем-то схожи. Я ведь тоже владею почти запредельной техникой, позволяющей мне играть самые трудные пассажи из Второй и Четвертой Баллад, как никто другой их не сыграет. Даже Клаудио Аррау спотыкался, измотанный аккордами «шестой степени» [39] В альпинизме шестая степень трудности — самая высшая (Прим. перев.).
трудности, я чувствовал, как он уставал, как ему не хватало пальцев. А Рубинштейн — наоборот, легкий, как проворный скалолаз, наголову разбивал все препятствия с изяществом и немалой долей кокетства. Услышать исполнение Аррау было все равно что наблюдать, как старый опытный альпинист взбирается на стенку, и только когда он переваливает мертвое от усталости тело на гребень, понимаешь, чего ему это стоило. Весь смысл его игры в том, что трудности различимы. А тем временем другой альпинист, Артур Рубинштейн, взбирается легко и точно, словно та самая природа, что сотворила скалу, дала ему ключ к победе, и для него подъем все равно, что детская игра. Я же представлял собой середину между этими двумя чудесами техники и интерпретации, я был «чудом будущего» (так, по крайней мере писали критики), их синтезом, осознание которого требовало времени. Обрывистой пятисотметровой стены мне хватило на всю жизнь. Но в том и заключалась ирония, что, когда я думал, что достиг гребня, тут же обнаруживал себя лишь у следующего взлета, а Четвертая Баллада наращивала стену в бесконечность. А Шопен? Как он одолел бы эту стенку? Как я, как Аррау, как Рубинштейн, или, скажем, Корто? Ничуть не бывало: Шопен, как Бог-шутник, эту стенку спроектировал, выстроил и оставил нам, издалека наблюдая наши труды и оставляя наши успехи на волю случая.
Интервал:
Закладка: